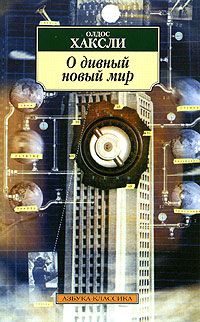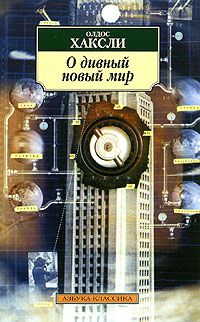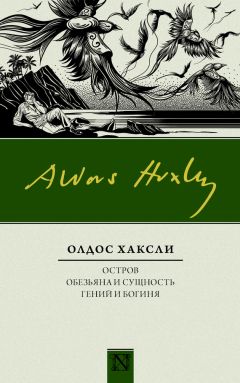Олдос Хаксли - О дивный новый мир
И они побежали к лифту.
– Неужели вам любо быть рабами? – услышали они голос Дикаря, войдя в вестибюль Умиральницы. Дикарь раскраснелся, глаза горели страстью и негодованием. – Любо быть младенцами? Вы – сосунки, могущие лишь вякать и мараться, – бросил он дельтам в лицо, выведенный из себя животной тупостью тех, кого пришел освободить. Но оскорбления отскакивали от толстого панциря; в непонимающих взглядах была лишь тупая и хмурая неприязнь.
– Да, сосунки! – еще громче крикнул он. Скорбь и раскаяние, сострадание и долг! – теперь все было позабыто, все поглотила густая волна ненависти к этим недочеловекам. – Неужели не хотите быть свободными, быть людьми? Или вы даже не понимаете, что такое свобода и что значит быть людьми? – Гнев придал ему красноречия; слова лились легко. – Не понимаете? – повторил он и опять не получил ответа. – Что ж, хорошо, – произнес он сурово. – Я научу вас; освобожу вас наперекор вам самим. – И, растворив толчком окно, выходящее во внутренний двор, он стал горстями швырять туда коробочки с таблетками сомы.
При виде такого святотатства одетая в хаки толпа окаменела от изумления и ужаса.
– Он сошел с ума, – прошептал Бернард, широко раскрыв глаза. – Они убьют его. Они…
Толпа взревела, грозно качнулась, двинулась на Дикаря.
– Спаси его Форд, – сказал Бернард, отворачиваясь.
– На Форда надейся, а сам не плошай! – И со смехом (да! с ликующим смехом) Гельмгольц кинулся на подмогу сквозь толпу.
– Свобода, свобода! – восклицал Дикарь, правой рукой вышвыривая сому, а левой, сжатой в кулак, нанося удары по лицам, не отличимым одно от другого. – Свобода! (И внезапно рядом с ним оказался Гельмгольц.) Молодчина Гельмгольц! (И тоже стал отбивать атакующих.) Теперь вы люди наконец! (И тоже стал швырять горстями отраву в распахнутое окно.) Да, люди, люди! – И вот уже выкинута вся сома. Дикарь схватил ящик, показал дельтам черную его пустоту. – Вы свободны!
С ревом, с удвоенной яростью толпа хлынула опять на обидчиков.
– Они пропали, – вырвалось у Бернарда, в замешательстве стоявшего в стороне от схватки. И, охваченный внезапным порывом, он бросился было на помощь друзьям; остановился, колеблясь, устыженно шагнул вперед, снова замялся и так стоял в муке стыда и боязни – без него ведь их убьют, а если присоединится, самого его убить могут, – но тут (благодарение Форду!) в вестибюль вбежали полицейские в очкастых свинорылых противогазных масках.
Бернард метнулся им навстречу. Замахал руками – теперь и он участвовал, делал что-то! За кричал:
– Спасите! Спасите! – все громче и громче, точно этим криком и сам спасал. – Спасите! Спасите!
Оттолкнув его, чтоб не мешал, полицейские принялись за дело. Трое, действуя заплечными распылителями, заполнили весь воздух клубами парообразной сомы. Двое завозились у переносного устройства синтетической музыки. Еще четверо – с водяными пистолетами в руках, заряженными мощным анестезирующим средством, – врезались в толпу и методически стали валить с ног самых ярых бойцов одного за другим.
– Быстрей, быстрей! – вопил Бернард. – Быстрей, а то их убьют. Упп… – Раздраженный его криками, один из полицейских пальнул в него из водяного пистолета. Секунду-две Бернард покачался на ногах, ставших ватными, желеобразными, жидкими, как вода, и мешком свалился на пол.
Из музыкального устройства раздался Голос. Голос Разума, Голос Добросердия. Зазвучал синтетический «Призыв к порядку» № 2 (средней интенсивности).
– Друзья мои, друзья мои! – воззвал Голос из самой глубины своего несуществующего сердца с таким бесконечно ласковым укором, что даже глаза полицейских за стеклами масок на миг замутились слезами. – Зачем вся эта сумятица? Зачем? Соединимся в счастье и добре. В счастье и добре, – повторил Голос. – В мире и покое. – Голос дрогнул, сникая до шепота, истаивая. – О, как хочу я, чтоб вы были счастливы, – зазвучал он опять с тоскующей сердечностью. – Как хочу я, чтоб вы были добры! Прошу вас, прошу вас, отдайтесь добру и…
В две минуты Голос при содействии паров сомы сделал свое дело. Дельты целовались в слезах и обнимались по пять-шесть близнецов сразу. Даже Гельмгольц и Дикарь чуть не плакали. Из хозяйственной части принесли упаковки сомы; спешно организовали новую раздачу, и под задушевные, сочно-баритональные напутствия Голоса дельты разошлись восвояси, растроганно рыдая.
– До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые…
Когда ушли последние дельты, полицейский выключил устройство. Ангельский Голос умолк.
– Пойдете по-хорошему? – спросил сержант. – Или придется вас анестезировать? – Он с угрозой мотнул своим водяным пистолетом.
– Пойдем по-хорошему, – ответил Дикарь, утирая кровь с рассеченной губы, с исцарапанной шеи, с укушенной левой руки. Прижимая к разбитому носу платок, Гельмгольц кивнул подтверждающе.
Очнувшись, почувствовав под собой ноги, Бернард понезаметней направился в этот момент к выходу.
– Эй, вы там! – окликнул его сержант, и свинорылый полисмен пустился следом, положил руку Бернарду на плечо.
Бернард обернулся с невинно-обиженным видом. Что вы! У него и в мыслях не было убегать.
– Хотя для чего я вам нужен, – сказал он сержанту, – понятия не имею.
– Вы ведь приятель задержанных?
– Видите ли… – начал Бернард и замялся. Нет, отрицать невозможно. – А что в этом такого? – спросил он.
– Пройдемте, – сказал сержант и повел их к ожидающей у входа полицейской машине.
Глава шестнадцатая
Всех троих пригласили войти в кабинет Главноуправителя.
– Его фордейшество спустится через минуту. – И дворецкий в гамма-ливрее удалился.
– Нас будто не на суд привели, а на кофеинопитие, – сказал со смехом Гельмгольц, погружаясь в самое роскошное из пневматических кресел. – Не вешай носа, Бернард, – прибавил он, взглянув на друга, зеленовато-бледного от тревоги. Но Бернард не поднял головы; не отвечая, даже не глядя на Гельмгольца, он присел на самом жестком стуле – в смутной надежде как-то отвратить этим гнев Власти.
А Дикарь неприкаянно бродил вдоль стен кабинета, скользя рассеянным взглядом по корешкам книг на полках, по нумерованным ячейкам с роликами звукозаписи и бобинами для читальных машин. На столе под окном лежал массивный том, переплетенный в мягкую черную искусственную кожу, на которой были вытиснены большие золотые знаки Т. Дикарь взял том в руки, раскрыл. «Моя жизнь и работа», писание Господа нашего Форда. Издано в Детройте Обществом фордианских знаний. Полистав страницы, прочтя тут фразу, там абзац, он сделал вывод, что книга неинтересная, – и в это время отворилась дверь, и энергичным шагом вошел Постоянный Главноуправитель Западной Европы.
Пожав руки всем троим, Мустафа Монд обратился к Дикарю:
– Итак, вам не очень-то нравится цивилизация, мистер Дикарь.
Дикарь взглянул на Главноуправителя. Он приготовился лгать, шуметь, молчать угрюмо; но лицо Монда светилось беззлобным умом, и ободренный Дикарь решил говорить правду напрямик.
– Да, не нравится.
Бернард вздрогнул, на лице его выразился страх. Что подумает Главноуправитель? Числиться в друзьях человека, который говорит, что ему не нравится цивилизация, говорит открыто, и кому? Самому Главноуправителю! Это ужасно.
– Ну что ты, Джон… – начал Бернард. Взгляд Мустафы за ставил его съежиться и замолчать.
– Конечно, – продолжал Дикарь, – есть у вас хорошее. Например, музыка, которой полон воздух…
– «Порой тысячеструнное бренчанье кругом, и голоса порой звучат»!
Дикарь вспыхнул от удовольствия:
– Значит, и вы его читали? Я уж думал, тут, в Англии, никто Шекспира не знает.
– Почти никто. Я один из очень немногих, с ним знакомых. Шекспир, видите ли, запрещен. Но поскольку законы устанавливаю я, то я могу и нарушать их. Причем безнаказанно, – прибавил он, поворачиваясь к Бернарду. – Чего, увы, о вас не скажешь.
Бернард еще безнадежней и унылей поник головой.
– А почему запрещен? – спросил Дикарь. Он так обрадовался человеку, читавшему Шекспира, что на время забыл обо всем прочем.
Главноуправитель пожал плечами.
– Потому что он – старье; вот главная причина. Старье нам не нужно.
– Но старое ведь бывает прекрасно.
– Тем более. Красота притягательна, и мы не хотим, чтобы людей притягивало старье. Надо, чтобы им нравилось новое.
– Но ваше новое так глупо, так противно. Эти фильмы, где все только летают вертопланы и ощущаешь, как целуются. – Он сморщился брезгливо. – Мартышки и козлы! – Лишь словами Отелло мог он с достаточной силой выразить свое презрение и отвращение.
– А ведь звери это славные, нехищные, – как бы в скобках, вполголоса заметил Главноуправитель.
– Почему вы не покажете людям «Отелло» вместо этой гадости?
– Я уже сказал – старья мы не даем им. К тому же они бы не поняли «Отелло».