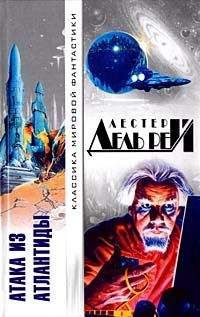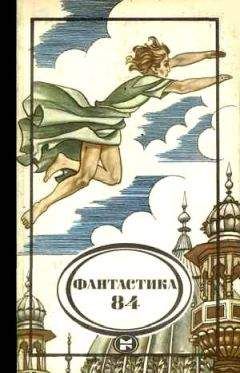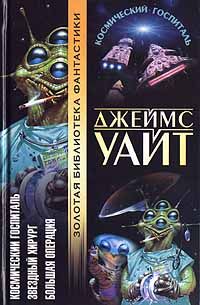Сергей Герасимов - Карнавал
– Правильно, – согласился толстый мужчина, – откуда знаешь?
– Я хирург.
– И многих порезал?
– Сотни две.
– Насмерть?
– Нет, насмерть только одного, рука дрогнула. А у тебя флюс. Дай мне нож и зажигалку – через минуту флюса не будет.
– Сява, он тебя порежет, – сказал кто-то из угла.
– У тебя что, здоровья много? – сказал Сява. – Подойди, будет меньше.
Лист прокалил кончик ножа на оранжевом огоньке, оттянул грязную верхнюю губу и проткнул флюс.
– Все.
– Правда, хорошо, – пошевелил губами Сява. – Будешь со мной. Завтра, на прогулке, надо будет одного порезать, я тебе покажу. Кошка, мяукай!
– Мяу, – сказал Кошка.
22
Протерозой, 1 апреля.
Говорят, что мы используем свой мозг примерно на пять процентов. Это рационально, ведь живем мы тоже примерно на пять процентов, а на остальные девяноста пять – исполняем обязанность.
Эту освежающую истину Одноклеточная поняла уже в одно из первых своих просветлений. Просветления следовали друг за другом нерегулярно и каждое из них занимало раздвижение горизонтов при подъеме на высокую гору: порой ты оборачиваешься и замечаешь, что гиганты прекратились в карликов, а пропасти – в трещины – и это печально, как все необратимое, – но с каждым шагом твой горизонт уходит дальше. Она стала замечать мириады деталей. Ведь это так просто – прислушайся, и ты услышишь тысячи звуков, которых не было до сих пор; посмотри, и ты увидишь тысячи новых предметов и оттенков; загляни внутри себя – и, увы, не найдешь там собственных мыслей, потому что слишком редко слушал и слишком редко смотрел внимательно. Она научилась погружаться в осязаемую бессветность собственной души и поняла, что душа напоминает спокойную тропическую звездную ночь среди океана: душа состоит из темных волнений, невидимой бездны, из прекрасного недостижимого высоко-высоко, но в основном – из пустоты. Иногда, долгими и отрешенными ночами, она спускалась в лодке на поверхность этого океана и рисковала отправиться в небольшое путешествие, не отплывая далеко от корабля, иногда она ныряла в теплую воду, которая чуть светилась – ровно настолько, чтобы показать, что и она полна непрекращающей движение жизнью; но она пока боялась проникать в пустоту. Все эти дни она отдыхала. Только сейчас она поняла, столь утомительны могут быть двадцать пять лет непрерывного исполнения обязанностей – опутанной обязанностями она уже пришла в мир (как и каждый из нас), и до сих пор мир не выпускал ее. Сейчас выпустил.
Лечебница для душевнобольных была обыкновенной средней лечебницей, поэтому над Одноклеточной производили обыкновенные средние процедуры, например, четыре раза взяли кровь из разных точек тела (будто кровь не везде одинакова), потом потеряли анализ и взяли кровь еще раз. В то время, когда процедур не производили, Одноклеточная была предоставлена самой себе. Каждое утро приходил врач, якобы для осмотра, а на самом деле – для исполнения обязанности, и Одноклеточная притворялась умирающей. Притворяясь, она закрывала глаза и видела сквозь закрытые веки мелькание теней и свечение весны, свечение усиливалось с каждым утром. Врач констатировал признаки агонии, но ничего не предпринимал. Ведь его обязанностью было лечить, а не излечивать. Если бы она и в самом деле имела все те симптомы, которые легко симулировала, она бы уже давно умерла.
Ее поместили в небольшую палату с двумя койками и огромным окном из предположительно небьющегося стекла. Ее напарница по палате была тоже из умирающих и тоже не спешила умирать, а лишь стонала и плакала по ночам, иногда выла, как майская кошка, а под утро, случалось, говорила вполне разумно.
Одноклеточная стала иначе относиться к людям. Сейчас каждый взрослый разумный человек, который встречался ей, по своему уму был трехлетним ребенком и, как трехлетного ребенка, его ничего не стоило отвлечь или обмануть. Или наказать, если нужно. Ее пугало лишь одно – она перестала чувствовать жалость к людям. Обладая почти беспредельной по сравнению с ними силой, она была способна эту силу использовать – для любой, даже самой бесчеловечной цели. Человечность и бесчеловечность значили для нее теперь так же мало, как обезьянность или безрыбность – она перестала чувствовать себя человеком. Иногда она ощущала беспричинные приступы ярости и с трудом сдерживала себя, понимая, что это один из главных симптомов и только, – в такие минуты она выходила в коридор и с ледяной вежливостью обращалась к расслабленным или устремленным больным. Расслабленные отвечали булькающими звуками, а устремленные пробегали мимо. Ей удавалось контролировать себя.
Она часто размышляла о добре и зле, с некоторой грустью, напоминающей ностальгию, потому что эти понятия стали для нее отвлеченнее алгебраических формул.
Утром первого апреля она проснулась свежей и отдохнувшей. Ей хотелось действовать и она решила начать сегодня, сейчас, потому что это самое лучшее в жизни – делать то, что хочешь, хотеть того, что делаешь, не задумываться, почему ты хочешь именно это, а не другое.
Светлело. В самом центре квадрата огромного окна из серо-синей невидимости изредка выглядывала почти полная луна – будто призрак, спешащий обрасти плотью и задержаться в дорогом его сердцу мире, – и сразу же исчезала. По небу плыли неплотные облака.
Во время утреннего обхода она притворилась умирающей чуть меньше, чем обычно, и врач приказал перевести ее в другую палату. Около девяти утра она, едва волоча ночи, с двумя такими же доходягами, как и сама, и в сопровождении санитара, вышла из здания. Лечебница для душевнобольных, в отличие от всех остальных лечебниц города (множественных, как метастазы), располагалась не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Лечебница состояла из нескольких десятков зданий, старых и новых, в живописном и мусорном беспорядке разбросанных среди древнего парка. Ни одно из зданий не имело больше четырех этажей. Накануне вечером прошел дождь – не очень больные в вислоухих шапках убирали территорию, вяло водя метлами из сторону в сторону, это называлось трудотерапия. Жалование дворников начальство всегда делит между собой.
Один из не очень больных пытался вымести лужу. Часть лужи никак не выметалась, тогда он отбросил метлу, лег на землю и стал лужу пить. Напившись, он с удивлением заметил, что большая часть лужи осталась на месте, – тогда он спокойно умыл лицо, встал и снова взялся за метлу.
Одноклеточная обернулась к санитару – санитар был хорошо дрессирован и в ту же секунду среагировал на ее движение, а в следующую секунду на выражение ее глаз – глаз акулы. Время вдруг растянулось, как резина или как обещания политиков; она свободно увернулась от летящей в ее сторону руки и ударила сама. С тупого лица съехала бровь; санитар упал и задергался. Две больные спокойно стояли, держа за плечами мешки с грязной одеждой; мешки были сделаны из старых цветных матрасов и отвратительно пахли.
Одноклеточная огляделась.
В сумасшедшем доме сумасшедшими были и неодушевленные предметы, например, совсем рядом рос подлесок из неровно изогнутой проволоки, в основном арматурной. Проволочная поросль вполне натурально смешивалась с порослью древесной.
Одноклеточная выбрала кусок проволоки потоньше и вырвала его из земли. Кусок имел длинный корень и основательно вскопал землю. Она связала санитару руки за спиной, оторвала полу своего халата и использовала ее как кляп. Не очень больной дворник продолжал спокойно мести лужу, но две более больные отвернулись и вяло побрели в случайном направлении. Одноклеточная вынула из матраса свою одежду и личные вещи. Она переоделась, ничуть не смущаясь из-за присутствия «дворника», – человеческие мнения утратили свои значения для нее. Она посмотрела на свою руку и пошевелила пальцами – кожа была содрана. Санитар перестал дергаться.
Она решила пройти по территории лечебницы. Место было интересное. Она не опасалась ни преследования, ни нападения – у людей было слишком мало сил, чтобы справиться с нею. В сером небе появился небольшой просвет и ослепительно прекрасное белое облачное перышко подставило себя солнцу. Одноклеточная остановилась и долго смотрела, как перышко исчезает. Две больные уже скрылись за ветхими постройками.
На свежепостроенной стене злободневно выделялись надписи: «Голосуйте за Среду и Субботу», «Голосуйте за социалистов», «Голосуйте за свободную любовь». Рядом же наглядно изображалось, за что именно предлагается голосовать в последнем случае. Оказывается, сумасшедшие такие же игривые создания, как и несумасшедшие. Были еще две загадочные надписи – первая: «Ах, жизнь наша неудовбер…» (надпись плавно переходила в неразборчивые каракули); вторая: «Ремонт» (табличка, прибитая к одинокому дереву). Одноклеточная прошла по недавно проложенной асфальтовой дорожке. Дорожка, как и все в этих местах, была сумасшедшей. Дорожка шла ровно, как нарисованная под линейку, но в неожиданном месте образовывала асфальтовую грыжу неизвестного назначения. В конце дорожки стояла одна телефонная будка и три лежали, поваленные. Стоящая будка была украшена подобием трезубца Нептуна, к трезубцу была привязана веревка, за веревку усердно тянул тощий сумасшедший.