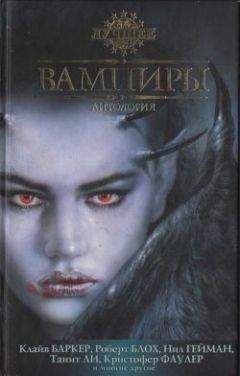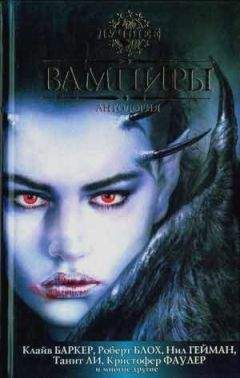Василий Владимирский - Повелители сумерек
Я моментально промок до нитки и поспешил в дом. На кухне было тепло. Колонна АГВ излучала жар. В полумраке я увидел лежащую на полу тетю Клаву.
Я бросился к ней, наклонился, прислушиваясь. Клавдия была жива.
Карина Андреевна очень удивилась моему визиту. К счастью, она не спала и быстро поняла, что хочет от нее мокрый настырный мальчишка. На мой вопрос, умеет ли она водить машину, пожилая женщина даже немного обиделась. «Я ветеран труда! — с достоинством заявила она. — Двенадцать лет автобус водила, а с вашей „Волгой“ как‑нибудь справлюсь».
Мы мчались через просыпающийся город. Вдоль улиц, навстречу нам, бурля и вскипая водоворотами, струились бурые потоки воды. Казалось, что город ворочается под этим холодным душем, сбрасывая с натруженных плеч ношу застоявшегося, перебродившего времени. Внезапно сквозь пелену ливня пробились жемчужные лучи восходящего солнца, и мы — люди, машины, деревья, дома — на мгновение словно зависли в этой сверкающей прелюдии нового дня.
Я сидел на заднем сиденье. Голова тети Клавы покоилась на моих коленях. Белый калач в завитках коротких седых волос. На виске пульсировала маленькая синеватая жилка.
* * *Мы с бабушкой вернулись в Москву. Я вырос, окончил институт, устроился на работу. Давняя история почти забылась. Лишь изредка вспоминал я то странное лето, сонные улицы Ельца и могучий ливень, смывающий старое время. Вести от родственников доходили с редкими телефонными звонками и открытками к праздникам. Старый дом продали, и тетя Клава переехала в другой город. Вовка пошел по военной стезе, стал офицером. О цыганском сказителе мне ничего узнать не удалось.
Вчера ко мне в дверь позвонили. Когда я вышел на лестничную клетку, там было пусто. Вдруг что‑то привлекло мое внимание. На нижней ступеньке лестницы стояла маленькая костяная фигурка — бегущий конь.
Майк Гельприн
Последний вампир
Я вхожу в класс, спотыкаюсь о порог и с трудом сохраняю равновесие.
В группе раздаются привычные смешки — в прошлый раз я, помнится, действительно‑таки навернулся. Ловлю падающие очки, цепляю их на нос и иду к доске. На ней надпись: «Птицерон — болван». Птицерон — это я, Андрей Иванович Птицын. Кличку придумал душа группы, староста и гитарист Женька Басов, надпись сделана им же. Женька трижды пересдавал мне речи Цицерона, и, следовательно, надпись справедливая. Стираю ее тряпкой и поворачиваюсь к аудитории. На мне синий пиджак, приобретенный в комиссионке пятнадцать лет назад, мятые брюки в клетку оттуда же и красно‑желтый с обезьянами галстук. Рубашка фирмы «Ну, погоди» под стать галстуку и лакированные ботинки с острым носком времен НЭПа.
Я слегка неказист, немного лопоух, зато сильно плешив, с единственной прядью волос, зализанной на макушку. Довершают мой облик очки с перевязанной изолентой правой дужкой. Они, как правило, сидят на самом кончике носа и постоянно падают.
Такую внешность я использую последние восемьдесят — девяносто лет. Правда, когда в начале века я преподавал античную историю в Сорбонне, пиджак и брюки принадлежали одному и тому же костюму, французы более строги к таким вещам. На истфаке московского университета подобные тонкости этикета соблюдать не обязательно.
Сегодня я веду семинар в четвертой А группе, моей любимой. Тема — Рим времен Тита Флавия. Традиционно начинаю с опроса.
На передней парте развалился красавчик Роберто Соуза по кличке Мучача. Он из Южной Америки, страны, впрочем, не помню, но это и не важно. Мучача — отменный кобель и гроза первокурсниц, влюбчивый, как мартовский кот. Если бы не я, количество абортов среди студенток, сделанных по его вине, могло бы побить все рекорды. Мучаче я предлагаю поделиться знаниями об отношениях Тита с иудейской принцессой Береникой.
Знаний у бедняги нет, но ему они и не обязательны, поскольку навряд ли производство конопли в Венесуэле или Боливии сильно зависит от деятельности Тита. Мучача тем не менее встает и героически пытается выплыть. В течение минуты я терпеливо выслушиваю версию о коварно соблазненной Титом невинной Беренике. Мучача входит в раж, приплетая по ходу дела недоброй памяти императора Суллу и не менее недоброй памяти разбойника Спартака.
Наконец я прекращаю издевательство над истиной, ставлю Мучаче заслуженную четверку и передаю Беренику Леночке Кругловой. Леночка — отличница, она безукоризненно пересказывает учебник. Молодец, пять, несмотря на то что содержание учебника по достоверности недалеко ушло от версии латиноамериканца. Я сам отнял у Тита любовь к длинноволосой еврейке и поэтому могу свидетельствовать о происходящих событиях куда лучше, чем доморощенный историк, использовавший напрочь лживые воспоминания придворного шута Иоськи Флавия.
Тит любил иудейскую царевну самозабвенно, до безумия, отдавая этому чувству всю мощь своей незаурядной натуры прирожденного государственного мужа и полководца. Но любовь эта могла привести к непоправимым последствиям для империи, и, забирая ее, я чуть не плакал от жалости. Любовь Тита была настолько сильна, что мне хватило ее на несколько лет жизни, не то что похотливые потуги Мучачи, от которых уже на третий день можно с голоду загнуться.
Глядя поверх очков, я обвожу глазами группу и одновременно прикидываю, что в ней произошло по моей части. Во втором ряду справа сидит Натка Миклютина — моя любимица. Как жаль, что только моя. У Натки близорукие серые глаза вполлица, веснушки и склонность к полноте. Еще у нее отличные стихи, которые она никому, кроме меня, не показывает. А еще у нее удивительная способность чувствовать. Натка живет недалеко от моего дома. Безотцовщина, мать работает библиотекарем в районке, они еле сводят концы с концами. Натка часто бывает у меня, я пою ее жасминовым китайским чаем, и мы до хрипоты спорим об античных временах. Иногда Натка поражает меня — недавно она предположила, что Афродита, наградив Елену любовью к Парису, забрала эту любовь у кого‑то другого. Я опешил и спросил, с чего она это взяла. Натка покраснела и долго молчала, размышляя, стоит ли меня посвящать и не сочту ли я ее сумасшедшей. Я не торопил и ждал.
— Извините, Андрей Иваныч, — сказала она наконец, — я не могу ответить, я просто это чувствую.
Я перевел разговор на другую тему, и вскоре Натка спохватилась и побежала домой. Допивая остывший чай, я вспоминал, как спешил тогда в Спарту, чтобы отнять у жены Менелая проклятый дар, и как успел лишь увидеть исчезающие на горизонте паруса троянских судов.
Да, у Натки по моей части ничего, как обычно. Зато вокруг Леночки Кругловой — хоть отбавляй. Да и немудрено. Профессорская дочка, отличница, морда лица — о‑го‑го, и фигурка — застрелись, а темперамент, как у течной сучки. Половина институтских жеребцов вокруг нее гарцует. Только и знает девка, что из постели в постель прыгать. А вот для меня у нее — ничего, пустышка бесчувственная. Нет, чувствует она, конечно, дай бог каждому, только не те эти чувства, что составляют мой рацион, — я не питаюсь похотью, вожделением и оргазмами, мне нужна только любовь. Ну на худой конец влюбленность, вон как у Мучачи. Но не чувственное наслаждение развратной самки — от него у меня только обмен веществ нарушается да сыпь по всему телу.
Женька Басов влюблен в Леночку по‑настоящему, со страданиями, бессонными ночами и запоями. Я от него регулярно подпитываюсь, и ему легче становится. А то вон прошлой осенью, когда группа с летней практики вернулась, на Женьку смотреть страшно было. Высох парень весь от любви да Ленкиного непотребства.
Рассказываю про смерть Тита и перехожу на одну из самых отвратительных тем — Рим времен правления мерзавца Домициана. К счастью, в самом начале мою речь обрывает звонок.
Захожу в класс, зацепившись полой пиджака за дверной косяк и чудом поймав очки. Прохожу к доске, стираю надпись «Птицерон — козел» и оглядываю присутствующих. В группе — новенький, и я невольно задерживаю на нем взгляд. Да, нечего сказать, красавец парень, смуглое волевое лицо, брови вразлет. Смоляные, зачесанные назад волосы открывают высокий лоб. Крепкий к тому же, мышцы перекатываются под рукавами спортивной рубашки.
— Представьтесь, — говорю, — вьюноша.
— Ринат Алаутдинов, — встает он, — переведен из башкирского универа, извините, университета в связи…
— Хорошо, Ринат, — прерываю я его, — останьтесь после занятий, пожалуйста, мы побеседуем. Надеюсь, у вас есть время.
— Да, конечно, — говорит он, — с удовольствием.
После звонка мы остаемся в опустевший аудитории вдвоем. Ринат ко всему оказывается спортсменом, мастером спорта по дзюдо и разрядником по теннису. Мне все больше нравится этот парень, хотя я подозреваю, что в античной истории тот же Мучача даст ему сотню очков форы. Я завожу разговор про древних историков. Он подхватывает, мы проходимся по Плутарху, переходим к Тациту, от него к Светонию. Парень обнаруживает знакомство со всеми тремя. Я не замечаю, как не на шутку увлекаюсь беседой. От римлян мы переходим к грекам, перемываем кости Софоклу и Еврипиду, после чего возвращаемся обратно в Рим. Дуэтом ругаем Тиберия, сочувствуем Отону и Гальбе и наконец умолкаем. Я в полном восторге и вижу, что Ринат тоже доволен. Я жму ему руку, и мы на этом прощаемся.