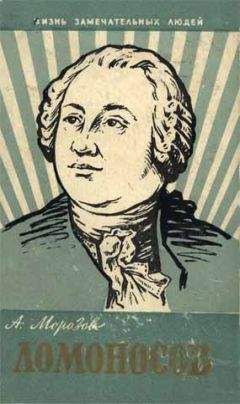Александр Морозов - Программист
Первый, самый шустрый разведчик, первый квант раздраженности проник в наш лагерь, чтобы разведать, достаточно ли мы бдительны. Смешной квант. Смешная разведка. Как будто люди ссорятся потону, что хотят этого. Как будто люди стареют или отчаиваются потому, что приятнее этих занятий просто ничего нет на свете. Как будто дело в бдительности!
Если бы не наша идиотская, нелепая, фантастическая никому-не-нужная приверженность к справедливости. Тот, кто придумал это понятие, не любил людей. Ну, значит, и не любил меня и Лиду.
Лида хотела справедливости. А разве справедливо, что ее лишили частицы ее жизни, лишили сегодняшнего вечера? Я был не виноват, а разве справедливо быть невиновным, когда человеку рядом плохо? Мы оба хотели справедливости. Только ее. И в результате мы впустили маленький острый квант, и оба узнали его.
Колесико обстоятельств где-то провернулось на пару зубцов, и мы с готовностью поддались на излюбленный древними греками сюжет: человек и фатум. Но древний грек боролся. Боролся, зная, что противостояние кончится его гибелью. И зрители переживали катарсис. Само небо, нависшее над амфитеатром, казалось, цепенело и не решалось обрушиться на плечи героя.
Знакомясь с моей биографией, никто не испытает катарсиса. Я не умею прятать боль и концентрировать ее внутри себя в решимость. В решимость и выдержку. Я буду требовать справедливости, маленькой, каждодневной справедливости, омертвлять по кусочку ту ясность, которая вначале является даром, волею случая. Буду цепляться за остатки, за компромиссы и, когда ничего не останется, отойду в сторону. Будет уже не больно. Будет мертво.
Потом оживу снова. Для короткой любви. Для долгого расставания.
Так было. Чтобы так не было и дальше, недостаточно делать другие ходы в игре. Надо изменить правила игры. Изменить игру.
Но такие вещи начинают не с женщин. Их начинают как-то в стороне, как-то совсем в стороне. А женщина чувствует это сама. Без разговоров и объяснений. Без клятв. Она чувствует это сама. Безошибочно.
13. Коля Комолов
Зачем Геннадий привел ее ко мне? К нам, на наши глаза. На мои и Лаврентьева. Он не боится — хорошо, это мы уже знаем. Не боится, как не боятся за все, что досталось слишком легко. Это чистый случай, думаю, что так, но все-таки случай случился опять-таки с ним. Мог бы и не случиться, да. Но если уж случился, то, конечно, с ним.
Как будто не я конструировал этот случай, не я исследовал его во всех возможных и невозможных вариантах и чуть ли не построил целую его теорию в своих дневниках еще пятнадцатилетней давности. И как будто я не давал Геннадию Александровичу читать эти дневники. У нее, видите ли, не было спичек, он так мне это рассказал. Да носи я хоть тысячу дет целое ожерелье из самых роскошных зажигалок, господин Случай распорядится по-своему. На этот раз нужны были спички. Нужно было сидеть на той скамейке и просто иметь спички. На этот раз… А «раз» всегда бывает только этот. Только один, и только этот. Других не бывает. Не будет. Другие случаи — это не по правилам игры.
Кто-то подбросил вселенную, как игральную кость, и выпало: надо было сидеть на той скамейке и иметь просто спички. А также не строить теорию в дневниках пятнадцатилетней давности. Тем более недопустимо жаловаться и ворчать на все это.
Пуститься во все тяжкие? Да ведь говорят, что это не-э-тич-но. И ведь можно проиграть. Не пускаясь во все тяжкие, всегда можно сказать, что, мол, не очень-то и хотелось, что виноград зелен, и всякое такое. А так… проиграть, оказаться смешным. Неэтичность, кажется, понятие темное. Это, в конце концов, только о браках говорится, что они совершаются на небесах. А она ему… кто она ему? Печорин далековато забрел по ту сторону добра и зла, но он выиграл у Грушннцкого. Да что Печорин? В подобных случаях это едва ли не общее правило: когда не надеются на успех, вспоминают об этике.
Неэтично… А этично было сидеть на той скамейке вместо своего друга, который сконструировал это все аж в дневниках пятнадцатилетней давности?
Витя Лаврентьев сказал, что напрасно я всю свою ученость в ход пускаю, что для Гены ее и половины хватит. Витя Лаврентьев не понял только одного: здесь вообще никакой учёности не хватит. Здесь не в ней и дело. И в спорах смешно он нас упрекает: смешно именно то, что нас обоих. На равных. А какие же это споры, когда остались, по существу, мои провокации? Гена отбрехивается, ввязывается для виду, да и вообще потрепаться любит. Но для него это уже не остро. Дли него нет содержания в наших разговорах. О чем бы они ни были. До его армии — да, до университета — еще сильнее. Это было нашим содержанием, нашим единственным и общим. Для меня так и осталось.
И вот оказалось, что я устарел, что я стал провинциален. Я следил за периодикой на трех языках, он ходил в наряды. И вот именно я-то и оказываюсь для него провинциален! Как будто подхваченный течением, он быстро удаляется в какой-то широкий, безнадежно-незнакомый мне мир. Где же та ракета-носитель, и когда он успел ее сбросить?
Ничего не замечающий Витя Лаврентьев. Все замечающий, но и ничего не понимающий, ничего не могущий изменить я. И быстро удаляющийся Гена — где же та ракета-носитель?
Я должен, я просто профессионально обязав выяснить, когда и как все это случилось. Что делает провинциальным одного и в чем загадочное ускорение другого. В конце концов, я философ, черт возьми, и я хочу знать! Я должен признать, что это чертовски интересно. В конце концов, у меня только одна жизнь, и я хотел бы таки прознать, как зовут этого распорядительного черта, который, не раздумывая, проставил на ней клеймо: инфантилизм.
Но я не только философ, н поэтому я не только хочу знать. Я еще и хочу жить. Вот именно, просто жить. Поэтому я позвонил Лиде и почти уже начал рассказывать ей, какие конструкции из лирики, майских ливней, роковых встреч понастроил я в дневниках пятнадцатилетней давности. И рассказал, бы, если бы только мне разрешили. Но добиться разрешения на рассказ, разрешения или права — это-то и есть самое трудное. И оно мне, конечно, не удалось. Я предложил встретиться, и она неожиданно легко согласилась.
И так же неожиданно легко, а потому и здорово топорно прошло все это «тайное» и «коварное» свидание. Встретились на Тверском бульваре, где она назначила. Побродили, погуляли. Она даже не стала с ножом к горлу приставать, зачем мне это надо и к чему все затеяно. Держала себя спокойно, мило, ну прямо как будто и он вышагивал по другую ее руку.
Но мне такая ее «умность» не помогла. Ни мне, ни свиданию. Я было начал с дневников пятнадцатилетней давности, но она сказала: «Не надо». Я спросил, любит ли она его, и она ответила: «Безумно». На этом, собственно, торжественную, а вместе и деловую часть встречи можно было бы считать законченной. Но что-то родственное я в ней почувствовал уже. Не вообще родственное, а по отношению к нему. Провинциализм. Или уж мне мерещится это везде? Она, конечно, ничего еще не поняла, не заметила (знакомы-то без году неделя) и не желает ничего замечать (как же, любит безумно), но ведь есть что-то, точно есть. А когда оно есть, то ведь понимать — не понимать, замечать — не замечать, важно ли это? Я что-то в ней почувствовал. А померещилось ли? — едва ли. Уже потому едва ли, что именно все остальное отмела, а об этом слушала. Я начал — как давно мы знакомы с ним и сколь почудили в молодые годы. Она слушала, но подробностей не хотела. Сказала только: «Это я знаю». Я сказал ей, что он всегда разбрасывался (даже с одного факультета на другой перескочил) и что, мол, человек не безграничен, она только: «Не знаю. Непохоже, чтобы он был не безграничен». Хорошо сказала, я бы и сам так мог сказать, но она не понимала, что говорила, а я понимал. Я попробовал, что, мол, такие люди слишком много себе обычно позволяют, но она опять отделалась: «Ну и что? Это же компенсируется, неужели, Коля, вам это не ясно?»
Мне это было ясно, но она опять не понимала, что говорит, а я опять понимал, но снова не мог ничего объяснить. И было ясно, что свидание — к концу, и что никакое оно не «тайное» и не «коварное», зато последнее, и что она сейчас будет прощаться. И я забормотал, я сбился уже со всякого расчета, что-то о том, что компенсация не компенсирует, что она вообще вот-вот прекратится, что на работе у него тупик, и дальше, дальше — мне уже неважно было, чтобы она поняла что-то о нем, а хоть что-нибудь, хоть далеко и совсем не лучшее, но поняла обо мне — и дальше успел еще добормотать, что он еще придет ко мне через двадцать лет, небритый и опустившийся, зайдет на огонек, на чаек, а мы — я и она — напоим его, конечно, чаем. И все это я говорил быстро и невнятно, и щеки даже у меня горели от вдохновения, от глупости и… и… И все-таки она стала прощаться. Сказала: «Коля, вам всего тридцать. Как же так, что у вас уже ничего не осталось, кроме как прикидывать, кто к вам будет заходить на старости лет на чай и с кем вы его будете принимать?» Все-таки выслушала, все-таки что-то поняла. Даже несмотря на то, что еще что-то возразила, будто на работе у него не тупик, а просто трудно, и если она будет с ним, то он все сделает как надо, и еще что-то, но все это было необязательно. Необязательно для меня. Честно говоря, я уже где-то понимал: тупик у него или не тупик и как он будет или не будет из него выбираться, — это уже все не для меня, этого мне не свалить, это уже не мои ситуации. Двадцать лет назад начался этот диалог, который для меня оказался жизнью, а для него — совсем по Толстому — детством, отрочеством и юностью.