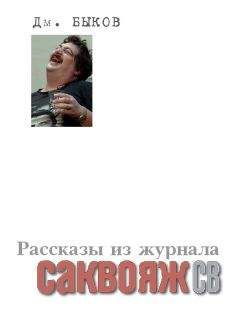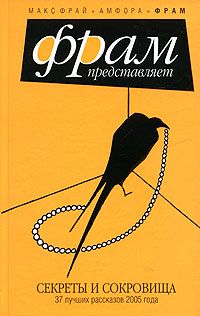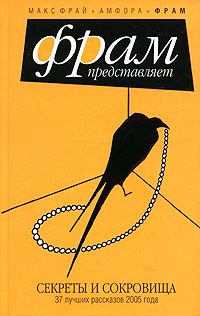Макс Фрай - О любви и смерти (сборник)
– Я боялся, что ты не придешь, – сказал Вася-Сэм. – Потому что мы с тобой похожи, Фанни. Я бы и сам на твоем месте больше не пришел. Наверное. Нет, на самом деле, не знаю, как бы я поступил. Но захотел бы больше не приходить, это точно.
– Вот и я захотела, – кивнула она. – И даже не то чтобы не смогла. Просто передумала. Поняла, что еще успею поплакать и потосковать. Это нельзя отменить, но можно отложить на потом. Давай, что ли, выпьем.
– Правильное решение, – подал голос длинный как жердь загорелый блондин, наряженный в карнавальный костюм медведя. – Ты – наш человек, Фанни. Я это с самого начала понял. И поэтому сказал тебе правду про Сэма. Своих обманывать нельзя, даже если это сделает их счастливыми. Такова цена настоящей дружбы.
– Правильно сделал, – сказала она. – Если бы этот бар просто однажды без предупреждения исчез, я бы наверное чокнулась, не понимая, что произошло. А теперь, конечно, тоже чокнусь. Но просто от горя. Это нормально, со всеми бывает, пусть.
У них впереди была еще целая долгая-долгая осень. И два месяца зимы, дождливый декабрь и морозный январь. А между ними самое лучшее в мире Рождество – с кайпириньей, бенгальскими огнями, танцами под «Madness» и подарками. Когда кому-то приснилось, что он подарил тебе кольцо с сапфиром, а ты, как ни в чем не бывало, носишь потом это кольцо наяву, к психиатру идти явно поздновато. Все к лучшему, к черту его!
А в феврале внезапно наступила весна. Морозы ушли, и уже больше не возвращались. Горожане ходили в зимних пальто нараспашку, сами себе не веря, не решаясь их снять, даже когда термометры дружно показывали плюс семь в тени. Сколько они показывали на солнце, Илона даже проверять не хотела. Фантасмагорические какие-нибудь числа, ну их.
Тепло наступило четвертого февраля, а третьего они в последний раз пили кайпиринью, всего по одному стакану, завтра вторник, рабочий день, рано вставать. Лев был в армейском маскхалате, в соломенной шляпе-канотье и при роскошных усах, Вася-Сэм продул Илоне три партии в нарды подряд, радовался ее победам как своим и рассуждал, что при всяком приличном баре должен жить толстый нахальный кот. Даже удивительно, что кот ему до сих пор так и не приснился. С людьми почему-то получается проще: захотел, и – voila! Все уже тут.
«Это был очень хороший последний раз», – думала потом Илона, бесцельно бродя по улице Бенедиктину с половины двенадцатого до половины четвертого утра, каждую ночь, уже не веря, даже не надеясь, просто из чувства долга, чтобы быть потом совершенно уверенной, что не упустила шанс.
«Это был очень хороший последний раз, – говорила она себе, – потому что мы не знали, что он последний. Ну я – точно не знала. Да и мальчики, скорее всего, нет. И все было так обыкновенно. Так обыденно. Мы не прощались навсегда, не рыдали, обнимая друг друга. Не поставили заключительную точку, и теперь до конца жизни можно думать: «Еще не конец». Вася все-таки невероятный молодец, хоть и Сэм. Такой отличный последний сон о нас ему приснился. Самая непоследняя в мире последняя ночь. Ювелирная работа».
И даже почти не плакала – просто из уважения к его, ни разу не высказанной, но вполне очевидной последней воле. Хотя жизнь ее закончилась вместе с дружескими посиделками в безымянном баре, это Илона понимала достаточно ясно.
Ничего не осталось, кроме самой Илоны. А этого мало.
Ходить на улицу Бенедиктину она перестала уже в начале марта. То есть, изредка сворачивала туда, но скорее из сентиментальных соображений, чем из практических. Улыбнуться гладкой стене в том месте, где когда-то была распахнутая настежь дверь, ласково погладить серый камень. Сказать ему шепотом: «Дорогой камень, еще недавно я была безумна и счастлива – вот ровно на этом месте, прикинь. Это тебя ни к чему не обязывает. Просто знай. Хоть кто-то кроме меня должен это знать».
В апреле шеф отправился в командировку в Бразилию. Перед отъездом был в столь приподнятом настроении, что пообещал привезти подарок. Чуть на шею ему не бросилась на радостях. Выпросила бутылку кашасы – если можно, с фазенды. Но нет так нет, хоть какую-нибудь. Почти не надеялась ее получить, шеф был отличный дядька, но рассеянный. Однако не забыл, привез. Обычную, из магазина, но все равно чудо.
По дороге домой купила лаймы. Достала из холодильника невесть когда и зачем замороженный лед. Разрезала лайм на четыре части, помяла его за неимением более подходящих инструментов ручкой молотка. Положила лед, налила кашасу. Выпила залпом, со стуком поставила стакан на стол. Громко сказала в распахнутое окно: «Я не хочу без тебя жить».
Ответа, разумеется, не последовало. Да она и не ждала.
Надела пижаму и легла спать.
Илона спала, и ей снилось, что она стоит за барной стойкой и долбит лаймы этим своим дурацким молотком. А ослепительно красивый Вася-Сэм и черный как сажа эфиоп в детском матросском костюме сидят на табуретах и хохочут, наблюдая за ее усилиями.
– Все через жопу, зато от сердца, – проворчала она. – Значит, кайпиринья сердца нам гарантирована. Ну что вы расселись, как в гостях? Помогите мне, джентльмены. Где у нас лед?
– Мау! – басом ответствовал ей огромный полосатый кот с бандитской мордой и аристократическими кисточками на ушах.
– Надо же, – сказал Вася-Сэм. – Тебе даже кот приснился. С первого раза! Ты крута, Фанни. Ты невероятно крута.
Море белого цвета и шифер, летящий с крыш
– Так-так, – говорит Йонка. – Помираешь, значит?
И аккуратно подносит к моей скуле кулак. Он вообще очень деликатный.
При этом Чучмек, наглая его рожа, жмется к ноге нападающего. А Бес, вероятно, проспал вторжение и продолжает дрыхнуть. Тоже мне защитнички. В следующей жизни заведу собаку. Адского черного пуделя Баскервилей. То-то попляшут все.
Из-за Йонкиной спины выглядывает Томка.
Глаза у Томки злые и веселые. Дескать – как мы тебя, а? Спрятаться хотел? И тихо в одиночестве погибать? Не выйдет. Томка – хороший охотник.
Томка – дааа.
– Вы вообще откуда взялись? – спрашиваю я.
– Это долгая история, – говорит Йонка. – В начале, видишь ли, земля была пуста и безвидна, тьма была над бездной, и дух парил над водами. Продолжать?
– Совершенно верно, тьма была над бездной, а вы при этом были в Берлине, – говорю я.
Говорить мне трудно. Мне даже смотреть на них трудно. И вообще все трудно – вот прямо сейчас. Особенно радоваться. Но ничего, я как-нибудь справлюсь.
– Были, – соглашается Томка. – Мы там, можно сказать, до сих пор есть. Просто мы – твой горячечный бред. Отягощенный, как видишь, зрительными и слуховыми галлюцинациями. Извини. Так получилось.
Сил моих нет разбираться, где заканчиваются шутки и начинается правда. Тем более, что шутки, скорее всего, тоже только начинаются. Знаю я их.
= Господь в милосердии своем сотворил не только всякую несерьезную медлительную фигню вроде человека, но и самолеты, – говорит Йонка. – Одно удовольствие ими летать! А мы своего не упустим.
– Ясно. Но вошли-то вы как?
– А отмычка на что? – ухмыляется Йонка. – Чем, как ты думаешь, мы на красивую жизнь зарабатываем? Все эти Берлины, самолеты, роскошные койки в хостеле, эксклюзивные доннеры в лучших турецких забегаловках немецкой столицы, шнапс в подворотнях и прочий мучительный декадентский шик.
Лицо его при этом мерцает бледно-зеленым светом, как большой, но экономичный болотный огонь. Ну или это у меня с глазами такая беда от высокой температуры.
– Вообще-то, мы – бред, отягощенный галлюцинациями, – кстати напоминает Томка. – Зачем нам какие-то ключи?
Она почему-то не мерцает.
– Тоже верно, – киваю, вспомнив, наконец, что ребята несколько раз оставались у меня дежурными по котам и прекрасно знают, что запасные ключи всегда хранятся у соседки тети Марии. А она, в свою очередь, в курсе, что вот этим подозрительным рожам надо открывать, предварительно предложив чаю. Вкрались в доверие к старушке, что тут будешь делать. Такие молодцы.
Задача на одну трубку, Холмс. Впрочем, можно обойтись и вовсе без трубки.
И я умиротворенно закрываю глаза.
Сквозь внезапно навалившуюся дрему я слышу, как Томка деловито говорит Йонке:
– Лимоны, мандарины и киви – сюда, прямо на стол. Остальное на кухню.
Надо же, какой хороший, достоверный сон. С хозяйственными подробностями. Надо будет им потом рассказать.
А какое-то время спустя, я просыпаюсь и обнаруживаю себя в раю. Потому что только в раю может так нежно и яростно пахнуть корицей, апельсинами, дымом и еще чем-то упоительно жареным – неужели котлетами? Господи, Твоя воля.
В комнате горят разноцветные свечи, на люстре под потолком болтается плюшевый Санта с веревочной лестницей и мешком, оконное стекло залеплено бумажными снежинками. Настоящая рождественская галлюцинация, не кот начхал. В камине сварливо потрескивают сырые поленья, купленные на заправке – ясно теперь, откуда дым.