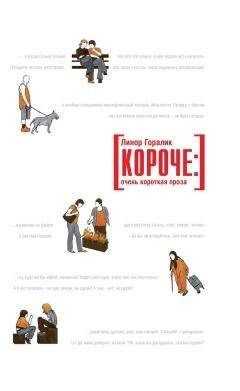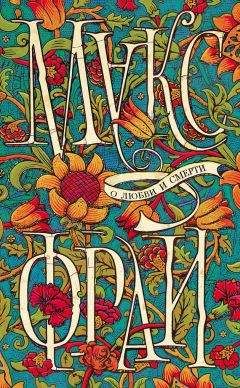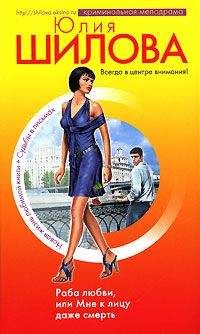Линор Горалик - Нет
…все время хочется дышать пореже, хотя знаешь ведь уже точно, что нет в этом воздухе ничего вредного давным-давно, что всё десять раз захоронили-перезахоронили, а с другой стороны — все думаешь: ведь и при Путине говорили: захоронили-перезахоронили всё, ничего вредного в этом воздухе нет, ядерные отходы давно ушли в землю, и на их месте уже растут виноградные лозы, — а теперь вот мы с Лисом приехали сюда шестьдесят лет спустя, потому что такое родится порой в этом безвредном месте, что хорошо бы Барнума сюда, не нас. Гели в ужасе и все повторяет в комм: ради бога, Волчек, не пей там сырой воды, сырой воды не пей! Лис вчера говорит: зато экономически это было необходимо, на эти же деньги, полученные за захоронение и все такое, эти вот самые места отстраивались, тут была знаешь какая нищета? Не могу объяснить ему, что в этой логике не так, потому что сам себе не могу объяснить. Мне кажется, что лучше нищета, чем песьеглавцы. Впрочем, это, может, потому мне кажется, что я не песьеглавец. И не нищий.
…с утра Лис залез в джакузи, но бульки не включал — просто посидел в теплом, потаял, послушал, как возится в номере за стеной Волчек, разбирает до смешного большой для такой поездки чемодан. В Уваровске перед назначенными часами приема переоделся, натурально, в костюм с галстуком: производить впечатление. Тот день вообще, надо сказать, стал для бедняги тяжелым уроком жизни: он все хорохорился, что вот, мол, он твердо знает, что все получится, а приходили по объявлению то какие-то с заячьей губой, а то вообще один, который умеет показывать карточные фокусы — и даже успел показать полтора, прежде чем Лис с Волчеком деликатненько его выперли. Ощущение было, что Уваровск объявил им бойкот: по местному вэвэ (60 000 трансляционных точек) солидный Волчек воззвал к гражданам с «неморфированными, но нетривиальными, приятного вида лицами и телами» (субтитры на русском, перевод — Александра «Лиса» Лисицына), предлагая явиться в пятницу в 56 номер гостиницы «Юнона» для собеседования «по поводу работы в престижной международной корпорации» в качестве порноактеров. («Только легальные сеты. Это — вопрос нашей чести!» — строгий волчековский палец с тонким платиновым колечком солидно упирается в небо.) Не пришло ни одного мутанта, хотя Уваровск — третий по масштабу генетических изменений город России. Приходили какие-то морфированные девки с нарощенными присосками во рту — «для улучшения минета»; приходила какая-то пятидесятилетняя баба с огромной, натуральной, но невыносимо уродливой, бурдюками висящей грудью; один мужик принес киску с двумя головами, чудовищное создание, от вида которого Лиса едва не вырвало на ковер. Создание с трудом брело по ковру, а Лис вжимался в кресло и пытался слабо бормотать: «Спасибо, не надо, спасибо». Он даже не помнил, когда именно мужик, слава тебе господи, испарился. Волчек был совершенно подавлен результатами кастинга. Ужинали молча, а за чаем он начал говорить об отсутствии у русских минимального честолюбия, о том, что даже в Марокко, где все ленивы и нелюбопытны, к нему приходили толпы народу и рвались сниматься, что здешние люди готовы жить в говне, лишь бы не работать. Лис похлопал глазами и спросил, не мешает ли ему, Волчеку, ощущение, что они мародерствуют в доме покойного? Волчек запнулся и отстал.
…акустика роскошная — я слышу, как Лис полез в джакузи. После Уваровска, кажется, был обижен на мои вечерние разглагольствования, но виду не подавал особо, — может, понял, что я несколько, как бы это сказать, придавлен происходящим, а может, не чувствует себя вправе дуться в качестве оплачиваемого проводника. Но вот сегодня, кажется, наконец оттаял, ожил. Утром бродил гулять, принес мне смешной предмет — некрашеную птичку-свистульку, такую же, как делают у нас в Чехии. Заметив узнавание у меня во взгляде, хлопнул по спине, сказал: «Гей, славяне» — и почему-то повеселел. Я стараюсь не ныть и не показывать ему, как мне здесь в целом — ну, противно, а что такое? Серо, грязновато, тоскливо, пахнет невыносимым захолустьем, и я едва ли не впервые в жизни вижу по-настоящему пьяных, действительно сильно пьяных прямо среди бела дня. Стараюсь ему не показывать — не только потому, что он, как я уже понял, большой патриот, может, даже больший, чем он сам понимает, и при этом очень все-таки сентиментальный — при его-то профессии! — мальчик (вчера спорили, откуда слово «сталкер»; он говорит — английское, но точного значения не помнит; я же всегда думал, что русское). Не показывать — еще и потому, что он, кажется, получает какое-то странное наслаждение, ну, не наслаждение — удовольствие от моего нытья, и при всей моей к нему симпатии мне совсем не хочется доставлять ему именно это удовольствие.
…утром, добредши до кремля и шатаясь там по маленькому нелепому базарчику, Лис вдруг понял, что недовольство Волчека тяготами путешествия, условиями жизни («Тебе номер нравился?» — «Да-да, конечно, конечно»), пьяными, уездной лапидарной рекламой, общей местной тоской — его, Лиса, почему-то веселит и радует. Не злорадство, нет — а просто такое глупое, хитроватое удовлетворение: вот, мол, что глупому иностранцу депрессивный криз, то русскому любовь к Родине. Лис долго думал потом, что, наверное, не в русскости даже дело, — просто есть что-то нелепое в фигуре путешественника с проводником, что-то, что делает путешественника чудовищно уязвимым, слабым, несчастным, слепым кутенком в руках своего местного ушлого поводыря. Расчувствовался и купил Волчеку в подарок свиристелку — похоже, видел в Праге, не круглоголовых, правда, а вытянутых немножко и как-то покрашенных ярко, — но все равно похожих. Волчек, кажется, оценил.
…сюда, во Внуков, ехать не хотелось страшно, и сам понимал, что не рациональный это страх, — а пересилить все равно не мог, потому что в детстве еще видел не раз зеленые брошюры — «Внуки Путина: самый несчастный город России». Знаменитая картинка: двухголовый мальчик, одна голова — маленькая, но совершенно явно — живая, настоящая — осмысленно смотрит в камеру и улыбается, другая, чуть смазанная на снимке, резко повернута в сторону, детское выражение — полуоткрытый рот, вытянутая шея, что-то увидел — двухголовую кошку? Мальчиков пиджачок почему-то нехорошо топорщился слева, маленьким я боялся держать эту фотографию в комнате и прятал ее на кухне за банками с какой-то крупой, тайком доставал и смотрел подолгу, хотя смотреть было жутко и очень противно, и когда становилось совсем невмоготу — быстро комкал потершуюся брошюрку в шар, с порывистой брезгливостью засовывал назад, в тайник. Надпись под фотографией гласила: «Сергей и Александр Лисичкины, сиамские близнецы. Город Внуков, соседствующий с объектом ТК-14, заплатил самую высокую цену за восстановление российской экономики в 2010–2015 годах. Братья Лисичкины — представители второго поколения жертв радиационных мутаций». В самолётике по дороге во Внуков тошнило и было страшно, хотя, казалось, вырос и поумнел, но так и виделись идущие по улице навстречу братья Лисичкины, ничуть не выросшие, ничуть не похорошевшие, и там, слева, топорщится что-то, что-то похуже двух голов, что-то… Передергивало и мутило, хотя вроде все видал за последние два года прекрасной своей работы, вроде профессия такая — все повидал, а все равно, ют эти вот Лисичкины… как-то…
…Лису давно хотелось попасть во Внуков, кстати — в детстве еще были зеленые экологические листовки про мутантов и все такое, и Лису, совсем еще тогда маленькому, было нестрашно (видно, на себе представить не мог), а как-то даже интригующе и загадочно: сказочный город, — потому что видны были на фотографиях и деревяный храм и старые изразцовые часовни — а в нем чудища, все такое. Знаменитая фотография — восьминогий щен — выглядела завораживающей, Лис думал, что за таким небось не угонишься, а бегать, думал тогда Лис, он должен как в мультике — вжжжик! — все лапки сливаются в один быстрый веер, — ввввииии! — несется веселый щенячий визг. Лису теперь и вспоминать было неловко, как тогда представлял себе все это, но во Внуков все равно хотелось попасть — все-таки сказочный город, сам по себе, бог с ними, с чудищами. А все-таки подумалось, когда вылазил из джета с раскалывающейся головой: вдруг сейчас из-под ног: вввввииии!
Но обошлось.
Глава 38
Название фильма: «Йонг Гросс снимает „Белую смерть“: неделя вторая». Жанр: изнурительная трагедия в четырех сценах. Автор сценария: Господь Бог, режиссер: Господь Бог, постановщик: немилосердный Господь Бог. В роли святого великомученика Йонга Гросса: я, несчастный святой великомученик Йонг Гросс.
Сцена первая. «Йонг Гросс и Ангельское Терпение». Вводимый в роль второго врача лопоухий юноша из Гарварда освежает в памяти сценарий фильма (каникулы, второй курс, юриспруденция, от вида черной девочки подгибаются коленки, чистый фетиш и при этом какой-то странный, нескрываемый почти расизм, где он его набрался? — вчера говорит мне, когда я орал на Нану за то, что ленилась плакать: «Намучаетесь вы с черными». А? Откуда, что?). Лопоухий юноша подходит ко мне, святому великомученику Йонгу Гроссу, и спрашивает: «Простите, можно? Вот я говорю первому врачу, ну, то есть Джонатану: „Не говори глупостей, я не буду на тебя стучать, что ты несешь. Но ты поклянись мне, что это больше не повторится. Как ты можешь, скажи мне? Неужели тебе, ну, не тошно и не противно? Я не говорю уже о том, что они твои пациентки — но ведь они умирают! У Айши было утром — утром! — 39,6, если она протянет день еще — это будет чудом, ты понимаешь? Ты знаешь, что у них есть легенда — они считают, что это не ты выбираешь тех, кто вот-вот умрет, а наоборот — умирают те, кого ты выбрал, дорогой доктор Смерть? Ты это — знаешь?“ „Да“, — говорит лопоухий юноша, дочитав этот отрывок, и вот Джонатан отвечает мне: „А ты понимаешь, что я, когда их трогаю, — я трогаю руками смерть? Ты понимаешь, что никогда в жизни своей ближе к ней не будешь, к смерти, что никогда больше у нас на руках не будет умирать не пациент — два — три — пятнадцать, а целый материк? Ты понимаешь, что мы стоим посреди храма Смерти, мы тут жрецы, мы принимаем скорбную жатву“, — ну, бла-бла-бла-бла. Так вот, — говорит мне лопоухий юноша. — Мне кажется, что это неверный подход. Мне кажется, что на самом деле Джонатана мучает не желание прикоснуться к смерти, а страх собственной смерти, но он не готов себе в этом признаться. Я, — говорит мне лопоухий юноша и уже отводит кроличьи свои глаза перед моими белеющими глазами, но все равно договаривает, — я бы… ээ… может… переде…» Я умру сегодня. Это точно совершенно.