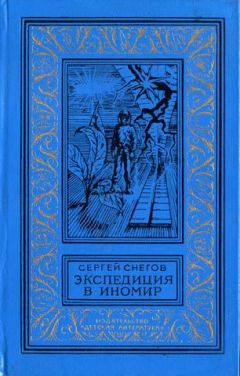Сергей Снегов - Экспедиция в иномир (сборник)
В парке творился отличный весенний вечер. Теплый ветерок шелестел листвой, перекликались птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику — Управление Земной Оси в последние годы трудилось без накладок. Но разве не все равно, сама ли природа приносит нам радостные дары, или ее вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой?
— Профессор малость заврался, — сказал Эдуард. — Малость — в смысле очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?
— На первой свободной скамейке, — сказал я.
В парке не одни мы «остужали пылающие мозги». По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо, на другом берегу, уже вне университетской территории, сиял широкими окнами Объединенный институт N 18. Адель подбодрила Эдуарда, ей показалось, что его вдруг одолела робость:
— Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается.
Робость относилась к разряду свойств, абсолютно неведомых Эдуарду Ширвинду. Он просто удобней усаживался на землю.
— Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под это самое… Прохазка не заблуждается, а завирается. А это вещи разные.
— Мне не показалось, что он очень путал, — заметил я.
— Он увлек вас широтой концепции. Заворожил, покорил, очаровал, восхитил. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях, такие подношения, словно он певец или музыкант, случались не только сегодня.
В отличие от Кондрата, да, пожалуй, и от меня, Эдуард был, конечно, умелый оратор. Я говорю «умелый», а не «прирожденный» или «блестящий» так точней. Словесными красотами он пренебрегал, разнообразием интонаций не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой, в этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось, проблема была из простейших — для несложного вычисления, что тут же и доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства еще больше, чем в первоначальные минуты взрыва. Ибо что было тогда? Комок разлетающегося вещества! А что сейчас? Огромный космос! И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет. Сколько же надо и сегодня превращать материального вещества в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлет?
Меня Эдуард убедил, хоть я старался подобрать контрдоводы. Как и многие люди — особенно если оппонент неприятен, — я не так даже стремился вдумываться в его аргументацию, сколько подыскивал возражения. В тот вечер Эдуард меня весьма раздражал, но убедительного опровержения я не придумал.
А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не вязалась с обсуждением научной проблемы. Прошел не один год, пока я стал если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое еще обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шел гораздо дальше. Кондрат защищал не Прохазку, а новые свои идеи, они были бы неверны, если бы был прав Эдуард.
— Вздор! — раздраженно крикнул Кондрат. — Чушь и чепуха! Скорость создания пространства не может расти! Прав Прохазка, а не ты.
— Возможно, прав Прохазка, а по я, — сказал Эдуард. — Но, друг мой Кондратий, зачем орать об этом на весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно, чепуха ли и вздор…
— Я уже сделала вычисление, — прервала его Адель.
Еще когда Эдуард доказывал, что Прохазка ошибся, Адель достала из сумочки карманный калькулятор. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления: «Не будем спорить, будем вычислять!», то им была именно она, пока еще простушка, пока только миловидная, а не красавица, только будущий астроном, а не светило космологии, наша зеленоокая, салатноволосая Адель Войцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далеких окон Объединенного института N 18 давало вдосталь света для игры на клавишах карманного калькулятора.
Адель объявила:
— Исхожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в один кубический сантиметр расширяется в год на один сантиметр, помноженный на пять в минус десятой степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около пятидесяти миллиардов лет.
— Между тем возраст Вселенной определяется нынче всего в двадцать миллиардов лет, — сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору.
Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду:
— Теперь ты понимаешь, что нынешняя скорость расширения космоса не годится для Большого Взрыва? Тогда выброс пространства разбрасывал материю со световой скоростью, отчего она и превращалась в фотоны. Категорически настаиваю на этом!
Эдуард снисходительно улыбался.
— Если категорически настаиваешь… Не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат.
— Важно! — отрезал Кондрат.
Не один день прошел, пока мы поняли, как воистину важно было Кондрату в этом споре оказаться правым.
Бурная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции Прохазки. Да и поздно уже было. Кондрат пожал мне и Адели руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард пообещал догнать его, небрежно тряхнул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал, что поражен ее пониманием трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кондрата — побежал, а не просто поспешил за ним.
— Замечательные люди! — горячо сказала Адель.
— Что ты заметила в них замечательного?
Она не уловила моей иронии.
— Все, Мартын! Умные, остроумные. И такие друзья!
— Особенно чувствовалась дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда.
Ирония наконец дошла до нее, а ума ей было не занимать.
— Скажи, а ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда?
— Только если бы он смертельно оскорбил меня.
— И ты, думаю, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали?
— Нет, конечно.
— Вот видишь. А Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается, и есть доказательство дружбы, для которой подобные вспышки — мелочь.
Я промолчал. Она добавила:
— Но главное не их дружба. Мало ли кто с кем дружит! Мы с тобой тоже друзья. Они живут наукой! Наука у них — самое важное в жизни. Я бы хотела укрепить наше знакомство. Ты не возражаешь?
— Ты знаешь, Ада, твои желания для меня закон.
Я говорил искренно. Но жестоко бы соврал, сказав, что меня обрадовало ее желание. Умных парней хватало в университете и без этих двух. И меня огорчили ее слова, что мы с ней друзья. Сколько раз она доказывала мне, что мы больше, чем просто друзья! Я предугадывал, что новое знакомство внесет разлад в наши отношения. Перед входом в студенческую гостиницу я предложил подняться ко мне, она отказалась:
— Не сегодня. Мартын. У нас с тобой впереди целая жизнь.
Впереди точно была целая жизнь. Но общей жизни уже не было.
Ни она, ни я этого еще не понимали.
4
Так я вспоминал начало нашей общей дружбы, кутаясь в плащ под дождем на берегу институтского озера. Уже наступила ночь, на другом берегу темнело здание университета, наша ласковая «альма матер», наша «мать кормящая», где мы учились, где приобретали и теряли любимых, где из пытливых «сосунков науки», как мы сами себя тогда окрестили, постепенно превращались в мастеров мысли и знания.
Я рассердился на себя. Не о том думаю! Единственно важное красочный, бурноречивый Клод-Евгений Прохазка, его тогда еще мало кем признанная, теперь узаконенная теория Большой Вселенной. Именно из парадоксальной теории пражского профессора, из идеи непрерывного умножения мирового пространства и родилась работа Кондрата Сабурова, возникли все мы — «призовая четверка ошалелых гениев», как обозвал нас однажды Карл-Фридрих Сомов, потребовавший от меня сегодня анализа горестного финала столь блестяще начатых исследований. Истоки несчастья были в космологических теориях Прохазки, надо было размышлять о них, а я видел Адель и не хотел вникать в то короткое, так быстро ею проделанное на карманном компьютере вычисление, хоть и знал теперь, что существенно важным было оно, это маленькое вычисление, а вовсе не внешний облик Адели, ее зеленые глаза, шелест ее платья, запах ее духов, дразнящий смутными ароматами гвоздики, яблок и ананасов. «Твои духи так аппетитны, что ими можно насыщаться. Какое-то сладостное попурри из плодов и цветов!» сымпровизирует однажды Эдуард и будет часто со смехом повторять свою не то остроту, не то комплимент. «У нас с тобой впереди целая жизнь», — сказала она, прощаясь. И, я понимаю, сказала это, в общем-то, не для меня, а для себя самой, ибо чувствовала, что знакомство с двумя новыми студентами станет барьером для наших с ней отношений. Я не жалуюсь и не огорчаюсь. Наша любовь возникла случайно, распад ее совершился закономерно.