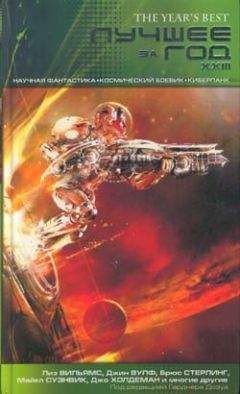Татьяна Мудрая - Кот-Скиталец
Этот мир постоянно вспухал, прорастал, плодоносил образами. Легкий очерк той самой женской головки, которую не видел никто, кроме меня; зыбкие узоры на старомодном коврике, что расположился над моей кроваткой и провожал меня в каждое сонное странствие – лучше всего было следить за их перерождением тогда, когда я лишь притворялась, что сплю; теневые пятна на обоях и клочки чистого цвета на книжной картинке (лимонный цвет на исподе кафтана Ивана-Царевича, который бежит за каретой, увозящей от него Царевну-Лягушку), которые прямо-таки завораживали, – все это разрасталось, заполняя собой податливое воображение.
Две стороны этой образности. День – сияние времен, дружелюбие пространства, открытость души, счастливое одиночество среди близких. И в противовес – клубящийся ужас ночи, когда бесформенная и вязкая тьма порождает чудищ: зубастые пасти, волчьи глаза, драконьи изгибы и шипы. Ибо зло, не имеющее облика, куда невыносимее, я это знаю тоже: мой страх перед этими тварями куда сильнее их уродства. А предвкушение куда хуже самого страха: вот они свились в невидимый клубок у печной дверцы, за поддувалом, внутри железного листа, что на полу, и затаились, ждут, пока заснут дед и бабушка, которые спят рядом со мной в крохотной комнатенке; ждут, чтобы просочиться наружу.
Ради своего спасения я представляю, что забралась в ноги моим старшим и свернулась наподобие котенка. На самом деле это мне запрещено, а теперь там вообще нет места – я выросла; но все-таки страхи отчасти уходят, жуткие образы растворяются в том, что их породило. Зато теперь через полуоткрытую дверь соседней каморки (там у нас умывальник и столовая) на фоне тускло светящегося окна замаячили два бледных силуэта: один садится на воздух, другой беззвучно говорит с ним, сопровождая слова какой-то удивительно плавной, текучей жестикуляцией. Зрелище тоже не из обыкновенных; но я успокаиваю себя тем, что это отец и мама, наверняка зная, – нет, не они, слишком красивы. Однако эти двое приносят избавление и сон.
А утром, на ясном свету, желтое байковое покрывальце на спинке моей кровати становится местом для спектакля. Бабушкин узкий самошитный лифчик красного цвета – молодая супруга, а ее же широкие и длиной по колено черные трусы – пожилой муж. Следует комическая сценка на два голоса, умеренно фривольная (что вы хотите, мне едва пять лет от роду): он ее ревнует, она дуется и кокетничает, он прощает и зазывает к себе в объятия, но она, к сожалению, не может двинуться с места, потому что отлучился кукловод… Тут сцена вздрагивает от грохота охапки поленьев, которую дедусь обрушил на жестяной под нашей печки-голландки. С визгом распахивается дверца, принимая новую пищу своему пламени. Рука кукольника снимает фигурки с рампы: до сих пор бабушка собирала завтрак полуодетой, в кофте поверх байковой мужской сорочки, заменяющей ей ночную рубашку. Мигом разогревается плита голландки, а на ней чайник – вставай умываться, соня!
И вот утро разворачивается в день. В нем все чаще не я леплю, к добру или худу, а он сам меня лепит. Впрочем, дневная реальность с ее собственными ужасами и очарованием, колоколами и звонами, тоской и счастьем – сама пока еще пластична и не закостенела, не закоснела, не оплотнилась, прозрачна почти без тусклоты и состоит из воздуха, а не из глины, как мир больших людей, и царство моей радости пока еще видно через нее и имеет над нею власть.
Постепенно, день за днем, месяц за месяцем, отходят от меня ночные мороки: я адаптируюсь, приобретаю иммунитет, осваиваюсь в приданном мне, невсамделишном этом мире – верный знак того, что близок час, когда эта невсамделишность беспрекословно овладеет мной. Уже и сама я склонна принять обманку за истинное лицо, счесть ад если не раем, то, по крайней мере, тем, что только и дано нам в опыте, а остальное чушь, как учат нас в нашей родной рутенской школе! (Вопрос в сторону: терпели бы мы так безропотно наш бытовой ад, если бы сквозь него хоть изредка не просвечивало рая?)
…А сосны и луг за ними постепенно выцветают. Одно из деревьев совсем засохло, его спилили и даже корни выкорчевали из сухой земли. И все же, и все же…
Безбрежное одиночество зимнего двора, снежные крепости и дома с ледяным катком вместо пола, которые сооружаем мы вместе с дедом; пологая горка для санок, у них спинка и мягкое сиденье, обтянутое куском диванной обивки; постаревшая новогодняя елка с полуосыпанной хвоей, но зато с игрушками из разноцветного льда – тоже дедова затея. Как бы составленные из полупрозрачных шариков купола природных ледяных линз, крышки над миниатюрными пещерами, вытаявшими в снегу от январского солнца: внутри чудится иногда бесцветное кристаллическое растеньице, то ли мох, то ли цветок. (Так зрение мое, пытаясь убежать, погружается в микромир.) А позже – весенние ручьи, ради которых я пробиваю канавки и туннели в твердом снегу, зачастую – в стене моего полуобрушенного ледяного дома; сосульки, звенящие хрустальной капелью, и под ними – чистейшие глубокие лужицы, озерца в бисерной оправе; и шалое апрельское солнце пляшет в небе. От него вытаяли стружки и опилки от осенних дров. Гора талого снега, сброшенного с крыши, возвышается, как эскимосское иглу. Посреди влажной белой равнины – квадратные плоты: летом, когда просохнет, будем новый забор на столбы поднимать. А в летней сараюшке на столе, крытом клеенкой, – кружка молока с булкой и глотком свежего воздуха – чтобы не уходить для еды в дом. Все это опять же выдумал и обеспечил дед.
…Узкоглазый и смуглый, черноволосый и тихий нравом. Он чуть косолапил и сутулился, хотя в те времена еще вовсе не был стар. Все мое детство проходило под знаком деда: его постоянно ровного, негромкого голоса, его всегдашней лаконичности эмоций – ни улыбки, ни крика, ни взмаха рукой. Он сопровождал меня в школу и из школы, водил на выставки и гулянья, охранял и одевал, молча сидел рядом, вдохновляя на свершение домашних заданий; щедрая его фантазия в дни моих болезней творила удивительные игрушки изо всякой бытовой чепухи. Я помню крошечные резиновые шарики из останков большого, купленного в ноябре для октябрьской демонстрации, но тотчас же бесславно и с конфузным треском погибшего, – ими играли в воздушное бильбоке; пульверизатор из жестяных трубочек, поставленных углом; книжку-мультяшку с бегущим человечком, нарисованным на корешке старого отрывного календаря; «всамделишное кино» на обратной стороне бумажной ленты, опоясывавшей ранее буханку черного хлеба – его следовало поместить между абажуром горящей лампы и стеной, но не просто, а с каким-то хитрым изворотом. Можно было поклясться, что этот меланхолик и флегматик играл в свои выдумки так же увлеченно, как и я – так он ограждал ребенка и во мне, и в самом себе.
Словом, все прочие были взрослыми, а дед – он был дедом. Все были по одну сторону, мы двое по другую. Все прочие казались – он был. Бог знает, что творилось в его голове и груди при соприкосновении с любимой бабушкой: это сплошь и рядом оказывалось такой же тайной для всех, как и его истинные вкусы и пристрастия. Она, крошечная и верткая, точно капля ртути, язвительная, как шпанская мушка, встревала во все домашние дела и вскорости наладила их так, что на ней одной всё и держалось. Визгливым голоском воспитывала меня и вечно безропотного и безгласного деда. Выносила помойные ведра и домашние тяготы, вытрясала душу из резиновых ковриков, тряпочных половиков и своих близких. Обирала голой влажной рукой или тряпицей размером с носовой платок ковровые дорожки – первую ласточку нашего тощего благосостояния. Изводила мужа, дочь, зятя, внучку соседей и продукты. Исхитрялась покупать хорошее мясо по цене едва ли не требухи, экономя копейки – неимоверное и немыслимое искусство в те времена, когда все съестное было почти одинаково дешевым и одинаково скверным. За дефицитом кастрюль, и алюминиевых, и особо эмалированных, томила вчерашнюю картошку или кашу в наружном футляре от списанного прибора, который дедусь притащил из своего кабинета физики – ибо дед зарабатывал на жизнь учительством. (Этот цилиндрический сосуд, крапчато-голубоватый внутри и бугристо-коричневый снаружи, так прочно ассоциировался у меня не с точными науками, а с подгорелой пшенкой, что на лабораторных работах пятого класса я неизменно фыркала от одного слова «калориметр».)
Рядом с этой воцарившейся в доме суматошной инь наше семейное ян казалось неприметным и маловлиятельным. Деньги в дом приносил, тем не менее, он – дед. И когда он исписывал решениями и формулами бумажки, чтобы вложить их потом в учебник, и переводил с немецкого любимые бабушкой сентиментальные романы, одновременно сидя за столом и пережевывая ее стряпню, штопал носки или сидел с лупой над неисправными часами, но особенно когда вечерами просто читал свою главную книгу, – славно было притулиться у его жаркого и тощего бока, слушая гулкий стук его сердца, и делать вид, что он тебя совсем не замечает.