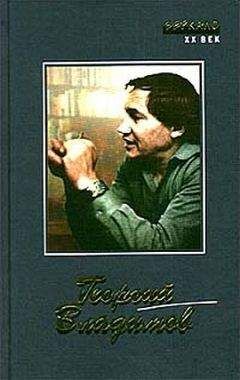Георгий Марчик - Трудный Роман
Глаза учительницы останавливаются на Романе.
– Вы уже изучали творчество Горького?
– Да, эту тему мы проходили.
Уверенно вышел к столу. Уверенно заговорил. Десятки внимательных взглядов взяли его под прицел. Первый ответ. Отвечал бойко, складно, с независимым видом, как по – писаному. Слова прямо-таки отлетали от зубов. Бог с ним, с личным мнением Чугунова. Он и не вспомнил о нем. Класс как-то поскучнел.
– Простите, а вы любите Алексея Максимовича Горького? – с сомнением спрашивает Марианна.
Как будто речь идет об их общем знакомом. Раскрыл глаза в деланном изумлении:
– А какое это имеет значение?
Марианна нахмурилась.
– Ну что ж. Садитесь. Тройка. В ответе все чужое, ничего своего. Литературу нельзя зубрить. Чугунову «пять».
Вот так срезала! В классе задвигались. Поделом новенькому. Не дери носа. Ай да молодец Марианна! Знай наших.
Ни один мускул не дрогнул на лице Романа. Пожалуйста, как будет вам угодно. Словно не ему, а самой себе она выставила тройку.
На уроке физики учительница обидела Табакова. Роман проникся к нему сочувствием. Вызвала – он замялся, смутился.
– Я не выучил, Калерия Иосифовна. Не успел.
Не хотелось Косте получать двойку. Но и выпрашивать прощения тоже не хотелось, хотя причина у него была вполне уважительная: посылали несколько человек на картошку.
– Почему?
– На картошку посылали, Калерия Иосифовна.
Но Мымру не проведешь – не верит. На круглом, как лепешка, лице недоверчивость.
– На картошку, говоришь? А кто подтвердит?
– Он был, был, был… – Все враз загалдели.
Мымра в замешательстве задумалась. И все равно не простила. Верх взяли высшие педагогические соображения. Так сказать, интересы дела. Уступка могла бы стать для разгильдяев поводом. А посему…
– Двойка, Табаков… (Клац, клац, как большими ножницами отрезала кусок жести.) Не верю, что не смог найти время. Не захотел.
Костя торопится в сторону центра. Собирался заглянуть в магазин радиотоваров. Понадобился пустяк – предохранитель. Сегодня репортаж о хоккейном матче. Миновал широкие застекленные окна кафе. Там за столиками глазастые девицы с коленками наружу тянули через длинные соломинки оранжевые коктейли.
– Табаков!
Остановился. Обернулся. К нему подходил Гастев.
– Привет! – Улыбка согрела лицо Романа. – Куда топаешь? Пойдем ко мне, – предложил он, стараясь наступать утконосыми туфлями на тонкие белые змейки снега, которые ветер вытягивал по асфальту. – Пойдем, Табаков, ко мне. Послушаешь новые ленты. Сыграю тебе все, что захочешь.
Одна стена комнаты Романа сплошь оклеена афишами, вторая – небрежно, но продуманно – фотографиями спортсменов, артистов, красивых девушек. На уровне глаз через нее длинная белая полоса. На ней пять линеек и нотные знаки, как птицы на проводах.
– Это кто? – Костя указал на портрет мужчины с выразительным взглядом.
– А-а-а… Это Пит Сигер. Моя первая юная страсть. Американский певец. Есть его запись… Хочешь послушать?
– Давай, – согласился Костя.
У Сигера приятный баритон. Он пел, а Роман рассказывал о своем увлечении джазовой музыкой. Имена, которые он называл, ничего не говорили Косте. Насмешливая улыбка словно приклеена к лицу Романа, и не поймешь – говорит он серьезно или иронизирует. Он настроил электрогитару, тронул зазвеневшие струны, тихо запел:
Я расскажу тебе много хорошего
В ясную лунную ночь у костра.
В зеркале озера звездное кружево
Я подарю тебе вместо венца…
Роман скользнул взглядом по бесхитростному Костиному лицу.
– Послушай, Табаков, а как ты относишься к девчонкам? Могут ли у нас с ними быть серьезные отношения? Конечно, я имею в виду не детские шалости, когда увидел хорошенькую девочку в красивом платье и побежал предлагать ей дружбу… А серьезное отношение, общие интересы…
Глаза Кости выдали замешательство. Роман пришел на помощь:
– Какое-то чудовищное противоречие. С одной стороны, ждем чего-то романтического, возвышенного, красивого. Такого же, как, допустим, у Ромео и Джульетты. С другой – расходуешь лучшие душевные силы черт знает на что. От красоты ничего не остается, кроме пустой оболочки. Согласен?
Ответ был явно не по силам Косте, но не хотелось оплошать, ударить в грязь лицом, и он храбро бросился вперед.
– Я, конечно, точно не знаю. Но, – он с виноватой улыбкой развел руками, – наверное, когда пишут о любви, все немного приукрашивают. Для романтики, так сказать.
– Значит, к этому не надо относиться серьезно, по- настоящему? – Роман сузил глаза. – То есть когда целуешь, обнимаешь, ты действительно свободен, ничем не связан. Так, да?
– Честное слово, я не знаю, – заволновался Костя. Собеседник вынуждал его к слишком ответственным, категорическим выводам. – Все зависит от обстоятельств.
Роман откинулся на спинку стула.
– Нам, жалким школярам, никто не хочет помочь. Мы блуждаем в потемках и сами доходим до всего ценой непоправимых ошибок. Ну, кто скажет, как мы должны поступать?
В словах и глазах Романа была такая неподдельная горечь, что Косте стало не по себе. Ему бы и хотелось помочь этому парню, но как, он сам не знал.
– Перво-наперво надо учиться быть человеком, а потом уже кем угодно.
– Учиться быть человеком? – удивленно переспросил Роман. – А зачем этому учиться? Разве мы марсиане, которые прилетели на землю? Чему бы я хотел научиться – так это быть самим собой. А мне, например, кажется: во мне живет сразу несколько человек. И я никак не могу решить, каким из них быть. С тобой этого не бывает?
– Нет, – ответил Костя. – не бывает.
– Счастливый ты человек. Все тебе ясно. Никаких забот, волнений, нерешенных задач.
Костя пожал плечами: «Как сказать!» Но промолчал. Он не любил распространяться о своих заботах. Свое никогда не казалось ему настолько важным, чтобы говорить об этом вслух. И действительно: какие уж там у него до сих пор были трудности? Для него самого, может быть, и да, но не для постороннего глаза…
Осенью заболела мама. Вначале месяца лежала в больнице, потом дома… Он бегал по магазинам, готовил, мыл пол, убирал, стирал… Мама неотрывно смотрела на него. Он с трудом выносил этот взгляд.
«Сынок, иди в школу, – просила она. – Я сама…»
«Ничего, мама, я догоню, не волнуйся. Ты же видишь, я занимаюсь…»
Когда мама настолько поправилась, что могла уже обходиться без его помощи, он объявил, что решил идти работать.
«Я не знал, как тебе трудно. Учиться буду по вечерам. Надоело считать и пересчитывать каждую копейку. Если бы ты знала, как я ненавижу деньги…»
Мама молчала. Он тоже молчал. Они сидели за столом в комнате, заполненной вечерними сумерками.
«Ведь совсем мало осталось, сынок. Ты бы закончил десятилетку… Перебьемся».
Он покачал головой.
Потом в дверь постучали, и к ним нерешительно зашла Марианна. Костя вскочил, испугался: «Зачем вы пришли?»
«Мы с тобой из одной школы. А разве это не значит, что мы из одной команды, Костя? Ты ведь занимаешься боксом? Я тоже играла в сборной института по баскетболу. Однажды во время матча сломала палец и не ушла с площадки до конца игры… Надеюсь, ты меня понимаешь?..»
В общем-то, ей удалось его убедить не бросать школу.
Он совсем не подумал о том, что это можно расценить как малодушие и трусость, как бегство от трудностей.
Дело не в этом. Они с мамой как-нибудь перебьются. Им не привыкать. Просто, наверное, он немного устал, расслабился. Вот и все. Ладно. Он снова соберется, и все будет в порядке.
«Хотите чаю, Марианна? – спросил Костя. – И хлеба с маслом? Хлеб свежий, мягкий. Только что принес из булочной».
«Давай чай пить», – обрадовалась Марианна.
Они не уговаривались молчать об этом разговоре, но так уж получилось, что ни Костя, ни Марианна больше не обмолвились о нем ни словом.
И снова перемена. Только в школе могли придумать такое словечко. Почему перемена? Перерыв. Перемена, а ничего не меняется, кроме урока. Все остается по-прежнему.
Звонок. Перемена окончилась. Все начинается сызнова. А ну, пошли, пошли в классы! Скучились у двери, наступают друг другу на пятки, толкаются, а сзади Иван Савельевич. Этот тип в белом венчике из роз… Ласкает взглядом затылки своих оболтусов.
Уж его-то Роман невзлюбил, кажется, с самого первого взгляда, с самой первой секунды. Невзлюбил остро, мучительно, а главное, безо всякой на то причины.
Учитель астрономии показался каким-то слишком уж мягким, деликатным, нескладным. Это был полный, высокий, слегка сутулый мужчина с округлым лицом и лысиной во всю голову, по бокам которой растрёпанно торчали седоватые клочки волос. Серые глаза чуть навыкате. Как- то хитровато, двусмысленно прищурены. Вроде все, мол, знаем, понимаем, и тому подобное. Черта с два! А на лице услужливое, полуиспуганное выражение. В детстве его, что ли, напугали? Ходит осторожно, семенит маленькими шажочками. Слова просто не скажет. Все «пожалуйста», «распожалуйста». И откуда такие берутся? От его беспомощности, рассеянности, каких-то старомодных манер все нутро выворачивает.