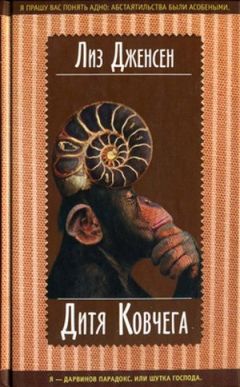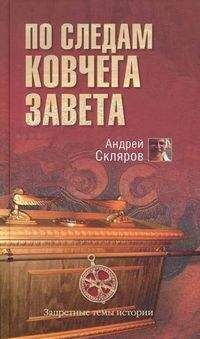Лиз Дженсен - Дитя Ковчега
– Это часть нашего генеалогического модуля, – поясняет Бланш.
– Модуля? – переспрашивает Норман. – Как космического?
– Это учебный жаргон, Норман, – поясняет Эбби.
– Доктор Бугров считает, что, по мере вымирания британской нации, рынок семейных древ станет очередным золотым дном. И мы хотим этим заняться. Для начала сделаем такую схему, древо Ядров.
– Попросите Императрицу помочь, – предлагает Эбби. – Она считает, что ее дочь, возможно, наша пра-пра-пра-кто-то. А та в свое время была знаменитым кулинаром.
Близнецы синхронно стонут.
– Нет, спасибо, – отрезает Роз.
– В любом случае, – добавляет Бланш, – устные свидетельства не в счет.
– Тем более, устные свидетельства призрака, – сухо добавляет Роз.
– Точно, – соглашается Бланш. – Нужны письменные доказательства. Как это называется, эмпирические.
– Мы достали тандерспитскую метрическую книгу, – провозглашает Роз, вытащив том из мятого пакета и взмахнув им перед родителями.
– Мы ею воспользуемся, – поясняет Бланш.
– Чтобы сделать схему, – продолжает Роз, – кто с кем женился.
– На ком, – поправляет Эбби, сгребая вещи девочек обратно в сумки. – Не с кем, – поясняет она, – а на ком.
– По ком звонит колокол, – встревает Норман, подмигивая Эбби.
– Прости? – хором переспрашивают близнецы.
– Эрнест Хемингуэй, – бросает Норман, шлепая Эбби по заднице. – Ваша мама – первый сорт. Не спрашивайте никогда, по ком звонит колокол: он звонит по ней.[81]
Близняшки стонут в унисон и кривятся, будто их сейчас стошнит.
– А теперь – к серьезным материям, – объявляет Норман, располагая пузо над ремнем и покачиваясь на каблуках. – Никто из вас троих, красотки, не заныкал ручную газонокосилку? Потому что, если у вас это вылетело из коллективной памяти, на следующей неделе – Фестиваль Чертополоха. Нет мира нечестивым![82]
Глава 14
Происхождение видов
Нет мира, неизменно утверждал Пастор Фелпс, тем, кто чист сердцем. Стоял 1859-й, год, когда вышла книга Чарлза Дарвина «Происхождение видов», – дата, ознаменовавшая начало меланхолии и сумасшествия многих теологов, включая Пастора Фелпса.
Сначала мы с ним смеялись. Мысль о том, что мы произошли от обезьян, не нова, сообщил мне Пастор, но в первый раз высказывается с такой якобы авторитетностью. И лишь когда мой приемный отец осознал степень, в коей доселе здравые люди серьезно восприняли идеи ученого, возмущение его стало нешуточным. Он не единственный полагал, что богохульная книга – последняя соломинка в долгом и грубом артиллерийском обстреле слова Божьего этим великим пугалом, невидимым орудием разрушения – наукой. Весь христианский мир – или та часть, кою представляли мы с Пастором Фелпсом, то есть простое смиренное духовенство земли нашей – еще не отошел от утомительных баталий с геологами из-за окаменелостей, но мы восстали снова – кирпичики в огромной стене веры, что объединяла всех нас.
В церкви наступили горячие времена, и каждый день, включая Шариковую пятницу, Пастор отправлялся в Джадлоу купить «Громовержец», чтобы быть в курсе развития Великих Дебатов. Он не остался пассивным участником. В те дни его проповеди были переполнены силой и страстностью, каких я никогда не видел прежде, и, благодаря этим яростным речам с кафедры, Чарлз Дарвин – доселе никому неизвестный в Тандер-Спите – стал объектом такого общественного порицания в деревне, и даже чучело в Ночь костров изображало Дарвина вместо Гая Фокса.[83] Вскоре после публикации Пастор Фелпс появился в церкви, размахивая экземпляром позорной книги, которую разорвал на проповеди, страницу за страницей. Если бы прихожанам разрешалось бурно радоваться в Доме Господнем, они бы возликовали, а так они тихо улыбались, позволив своим лицам просто и одобрительно светиться в поддержку Пастора Фелпса, пока страницы, кружась, опускались на пол.
– Вот мое послание всем еретикам, – предупредил отец. – Ибо тот, кто смеет бросать вызов слову Божьему, приведенному в Бытие, будет объявлен поклонником самого Дьявола и наказан соответствующе!
Паства начала обожать подобные сцены – один доктор Лысухинг после них явно беспокоился и качал головой.
– Боюсь, у него опухоль мозга, – признался он мне. – Он воспринимает эти споры об эволюции слишком серьезно.
Я не согласился. Все-таки отца я знал. Пастор был человек убеждений, и я любил его за это. Вдобавок я понимал, что он прав, и сам страстно разделял его взгляды. Из всех книг Библии, именно Бытие всегда было ближе всего моему сердцу, и я всей душою чувствовал его истинность. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною! А потом появился человек! Я считал, это невозможно отрицать, и наука пусть хоть повесится.
– Думаю, время покажет, доктор Лысухинг, что это у мистера Дарвина – и некоторых слоев общества – опухоль мозга, – заявил я. – Лет пять – и, уверяю вас, это нелепое безумие утихнет, и кризис, который мы переживаем, окажется лишь кратким периодом заблуждений и модных причуд.
Доктор Лысухинг пожал плечами, выпустил дым из своей омерзительной трубки и ответил – будь, что будет, – а я улыбнулся сам себе, гордый отцовской стойкостью. Ибо дискуссия над «Происхождением видов» весьма счастливо объединила нашу маленькую семью из двух человек, и одни из лучших моих воспоминаний об отце до его безумия относятся к тому самому году, когда мы вместе часами изучали нечестивый труд Дарвина при свете свечи в кухне и выстланный камнем пол блестел от соли. Мы читали, и наше беспокойство о том, что автор еретик, росло.
Ибо разве мистер Дарвин не выдвинул три одинаково опасных тезиса?
1. Слово Господне из книги Бытия – ложь.
2. Вся жизнь – включая жизнь человеческую – развилась за счет постепенного и случайного процесса эволюции из простых, кротких жизненных форм вроде сардины, и сам человек по сути – всего лишь возвеличенный бабуин.
3. Что – quid erat demonstrandum[84] – наша вера и жизненное дело моего отца – ничто.
Именно третий пункт списка вскоре и посеял зерно сумасшествия в бедном мозгу Пастора Фелпса. Если бы только я прислушался к словам доктора Лысухинга и оттащил Пастора от края бездны! Но я не знал, что он там стоит, и я вместе с ним. Я думал, мы в безопасности.
Однако мир уже покачнулся.
Среди городских жителей бытует заблуждение, будто существует всего четыре времени года. При этом любой, кто живет за городом, знает – их вовсе не четыре, а двенадцать. Каждый основной сезон – весна, лето, осень, зима – подразделяется на три явные части: начало, середину и конец – отрезки времени, в которые происходят предопределенные чудеса природы: цветет форсития, спариваются гагарки, сбрасывает листья бук или впадают в спячку летучие мыши. Я объясняю это, чтобы показать, насколько размеренной была наша жизнь в Тандер-Спите, насколько управляемой колесом календаря. Например, стояла ранняя весна, когда умерла матушка. Или середина осени – на следующий год, когда пришло Наводнение, я пережил тревожное видение и взошла тыква. И стояла ранняя зима – ноябрь, первые обжигающие морозы – когда в Джадлоу приехал Бродячий Цирк Ужаса и Восторга. И там, за одну минуту одного часа одного дня, крепостная решетка опустилась за мной, отметив окончание времени жизни под названием «детство».
Возраст: пятнадцать. Воскресный день, и из корыстных пагубных побуждений я только что сказал ни о чем не подозревающему отцу тройную неправду: что, несмотря на зимний мороз, я хочу пойти в школу поразмышлять, поспрягать латинские глаголы и почитать Библию. Далекий от подозрений, Пастор Фелпс отвечает на мою искусную ложь удивлением и радостью. Он треплет рукой мою жесткую копну волос:
– Я восхищаюсь твоим усердием, Тобиас, – говорит он, потроша сардины на пирог. – Это делает честь воспитанию, которое дала тебе матушка.
При упоминании о матери я прикусываю губу. «Мы не знаем, откуда ты взялся, Тобиас, – прошептала она мне на смертном одре, заживо пожираемая Тварью, мучаясь кашлем и прижимая к груди драгоценную тыкву. – Но пообещай мне никогда не ходить в Бродячий Цирк Ужаса и Восторга».
В точности это я сейчас и собирался сделать. Ибо зачем матери брать с ребенка такие клятвы, если Цирк не скрывает некую тайну? Понимая, что вскоре неминуемо нарушу матушкину предсмертную волю, я повесил голову. Но Пастор Фелпс не понял.
– И такой скромный, – с любовью произносит он, осеняя крестным знамением меня, а затем сардины. Я глотаю чувство вины, но позвоночник все равно покалывает в предвкушении запретного.
Ведь для ребенка естественно интересоваться своим происхождением, разве нет?
Только утром отец произнес ежегодную проповедь – перед набитой церковью – о зле тривиального, что совпало с приездом Цирка, ставшего второй после великого врага, науки, мишенью для личного праведного гнева Пастора Фелпса. Все семьи прихожан – Биттсы, Пух-Торфы, Ядры, Малви, Гавсы, Хэйтеры, Харкурты, Оводдсы и миссис Цехин – внимательно слушали, как мой отец, окутанный паром дыхания, что смешивался с солнцем, струящимся через витражи, проповедовал с жаром, во весь голос. Мы с Томми, менее внимательные, чем остальные, втиснулись на заднюю скамью; мы ходили в дальний конец Тандер-Спите собирать конские каштаны с сучковатого дерева, которое дало обильный урожай, и наши карманы едва не лопались.