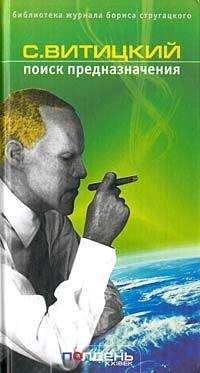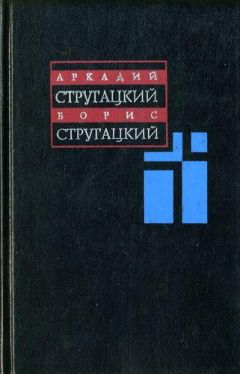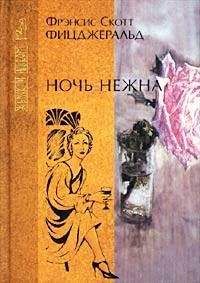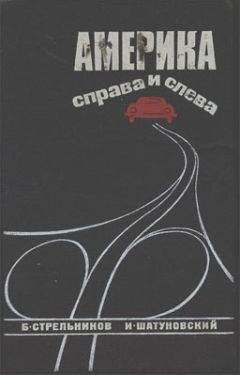Борис Стругацкий - Двадцать седьмая теорема этики
— Ладно, — сказал он, засовывая папки в полиэтиленовую сумку. — Все. Поговорили. Все свои слова беру назад. И не беспокойся. Я трепло, но — исправимое. Поехали с Богом…
6
Лето началось жарой необыкновенной. Асфальт подтаивал уже с утра. В мутном знойном небе плавал назойливый тополиный пух — белые войлоки его жаркий ветер мотал по мостовым. В пригородных зонах горели торфяники. Приказ был отдан — не пускать никого в леса, особенно на автомобилях. На работе потные осатанелые люди страстно спорили, что правильно: держать все окна настежь, или наоборот закрыть их плотно и еще занавесить. Белыми знойными ночами из подвалов поднимались сонмища комаров-мутантов — бесшумных и кровожадных, как пираньи. Тепловые удары стали обычным делом, словно многомиллионный город перенесло вдруг в пустыню Бет-Пак-Дала. Соседка грохнулась в обморок прямо на кухне — «сомлела». Станислав перепугался насмерть, но все обошлось: к вечеру прискакал ее новый хахаль — седой плотный человек с вкрадчивой повадкой квартирного вора — принес бутыль излюбленного портвейна «три семерки», и до глубокой ночи доносилось от них тихое, сдавленное пение: «Хас-Булат удалой» доносился, а также «Как день хорош, как солнца луч приятен…» и «Каким ты был, таким остался…»
Утром Станислав, невыспавшийся, потный и злой, был, немедленно по приходе, зван к Ежеватову.
— Садись писать отчет по АНТИТЬЮРИНГу, — сказал без всяких предисловий товарищ начальник, тоже потный, тоже злой и, видимо, невыспавшийся. — В темпе. Завтра чтобы был.
— Зачем это вдруг?
— А затем, что Академик наш вчера обувку поменял, — сказал Ежеватов с такой кривой ухмылкой, что Станислав сразу же понял, о чем речь, хотя эвфемизм ежеватовский был ему вовсе незнаком.
— То есть? — спросил он на всякий случай.
— То есть — коньки отбросил. Выпрямился. Дуба врезал… Наконец-о мы дождались этого печального события.
— Ясно, — сказал Станислав, не испытывая никаких эмоций. — Вообще-о он, по слухам, был — не очень?
— Он был очень даже «не очень». Если всех, кого он заложил, раком поставить, то они протянутся отсюда аж до Большого Дома. Но с ним можно было работать, понимаешь в чем дело… У него были минуты, и вот тут его надо было ловить… Он почти уж согласился тебя с Зинаидой отправить в Беркли на стажировку. И АНТИТЬЮРИНГ наш ему нравился. А теперь будет на его месте мудила Всехсвятский: АНТИТЬЮРИНГ он постарается закрыть на хер, а в Беркли поедет, соответственно, не Красногоров из ВНИИТЭКа, а какой-нибудь Серожопов из НИИСТО. Понял расклад?
Станислав расклад понял, но остался к нему вполне равнодушен. АНТИТЬЮРИНГ ему уже малость поднадоел, а про Беркли услышал он сейчас впервые, а потому горечь несбывшегося (самая горькая штука на свете) не могла зацепить его своими ядовитыми крючьями по-настоящему.
Он пошел писать отчет и писал его весь день, без обеда, только чаю попил с сухарями. В пять часов все из лаборатории ушли, стало тихо и даже, кажется, прохладно. В шесть заглянул перед уходом Ежеватов, полистал уже готовые страницы, рассказал байку из серии «Тук-тук. Кто там?..» («Тук-тук. — Кто там? — КГБ. — Что надо? — Поговорить. — А сколько вас там? — Двое. — Вот и поговорите»), сообщил, что Академик завещал себя отпевать в Никольском соборе («В обкоме все на рогах стоят, яйца на себе кусают…») и ушел, хрустя последним сухарем. Станислав остался и дописал черновик до конца. Было уже — половина восьмого.
Он подъехал к дому около восьми. Аккуратно подрулил на свое место, у фонаря (чтобы вору неудобно было взламывать хотя бы правую дверцу), выключил двигатель и посидел немного за рулем, глядя перед собой вдоль сизого от жары проспекта.
Ветер валял по мостовой белые войлоки тополиного пуха. Бухала баба на стройке супер-отеля. Курсанты ВМА тощими зелеными петушками выскакивали из проходной. Небо было мутное, белесо-голубое. Было лето.
Он вылез из машины и сейчас же, не успев одернуть себя, поглядел вверх на свои окна. Окна, естественно, были закрыты. Он отвел глаза и принялся старательно запирать машину: защелка правой дверцы… дворники — снять… наружное зеркальце — снять. Левая дверца…
В парадной он почти столкнулся с какой-то женщиной и отступил, давая ей дорогу. У нее было смуглое лицо и спокойные серые глаза с черными ресницами.
Она сказала:
— Здравствуй, Слава, — и только тогда он узнал ее. Это была Пола. Сорокалетняя Пола.
— Здравствуй, — сказал он.
Они стояли в парадной и глядели друг на друга. Молча. Долго. Наверное, целую минуту. Потом толпа мелких детишек высыпалась из дверей и, гомоня, стала пробираться между ними, и рядом с ними, и огибая их. Пола сказала что-то — губы ее шевельнулись, и на мгновение блеснули зубы — белые и влажные.
— Что? — спросил он поспешно.
— Я говорю: имею удовольствие читать тебя чуть ли не каждый день… — Голос у нее был прежний, чуть глуховатый, бархатный, голос покоя и свободы.
— Не понимаю, о чем ты…
— Ну, в «Смене» же… «Праздничные записки»…
— А! — до него дошло наконец. — Нет. Это не я.
— Как не ты? Эс Красногоров. «Праздничные записки»…
— Нет. Это однофамилец какой-то. Ко мне с ним все знакомые пристают, а я — ни сном ни духом…
— Жалко.
Было видно, что она и в самом деле огорчена. Это была та самая Пола: если ее что-нибудь огорчало, — она огорчалась, а если ее что-нибудь радовало, каждому было ясно, что она обрадована. Золото не тускнеет. Хорошее всегда хорошо.
Они опять помолчали, а потом Пола сказала:
— Слава, я все знаю. Я только не знала, чем я могу…
— Не надо, — сказал он поспешно.
— Удивительно все-таки, — сказала она сейчас же. — Живем в одном доме, а видимся раз в десять лет…
— И даже — на одной лестнице.
— Да, вот именно — на одной лестнице… А ты где работаешь теперь?
— И видимся не раз в десять лет, а раз — в пятнадцать… Даже раз в семнадцать… Кошмар!.. А работаю я все там же, во ВНИИТЭКе.
— Математик?
— Да. В каком-то смысле.
— Подтяни мою Саньку по математике. Ей осенью поступать.
— Как — поступать?! Саньке — поступать?! Ты что — издеваешься надо мной? Сколько же нам лет, Пола? Старуха!
Она тоже пошутила. Тоже что-то насчет старости, насчет внуков, насчет седин и лишних килограмм. Но думала она, конечно, о другом. В глазах ее плавилась жалость. И еще что-то в них было — что-то неуместное да и ненужное. Надо было удирать.
— Слушай, извини! — сказал он. — Мне вот-вот должны из Москвы звонить… Я побегу?
— Беги, — сказала она.
А что она еще могла сказать? Ему. Сегодня. Здесь.
Шагая через три ступеньки, он поднялся к себе на третий этаж. Не сразу заправил ключ в замочную скважину — нервы все-таки расходились, движения сделались неверными, словно он только что таскал ящики или боролся с кем-то непосильно тяжелым…
Войдя к себе в комнату, в прокуренную жару и духоту, он прежде всего подошел к правому окну, распахнул его и, высунувшись, поглядел вниз. «Запорож» был на месте — желтая крыша лаково отсвечивала и топорщились дурацкие уши. Ветер все гонял тополиные покрывала.
— Устал, — сказал он. — Сегодня — устал. Слишком жарко. Впрочем, я люблю жару. У меня, как известно, терморегуляция — идеальная.
Он наконец повернул голову и посмотрел ей в глаза. Она, как всегда, улыбалась. И как всегда он почувствовал, что падает. И как всегда не упал.
— Полу сейчас встретил, — сказал он. — Почти не переменилась. Но я узнал ее не сразу… Интересно, почему?
Ничего интересного, подумал он. Это все уже прошло. Давно.
— Я здорово был в нее влюблен, — признался он. — Я тебе не говорил этого никогда, потому что… потому что… Зачем? Я бы не хотел, чтобы ты когда-нибудь сказала мне про кого-нибудь, что, мол, я была в него влюблена в далеком детстве…
Он замолчал: он вдруг услышал свой голос. Это был голос одинокого истеричного мужчины в большой светлой пустой неубранной и прокуренной комнате. Он сбросил куртку, повесил ее на стул и полез в холодильник.
Потом он сел за стол, спиной к портрету и принялся без всякой охоты есть. Наполовину опустошенная банка горбуши «в собственном поту»… подсохший вчерашний батон… выдохшаяся минералка…
Он старался ни о чем не думать. О работе думать — тошнило, а думать о том, что налетало из прошлого и беспорядочно крутилось в голове, было нельзя. Он обрадовался, когда телефон зазвонил и соседка ласково-трусливым голосом, какой у нее всегда появлялся после хахаля, позвала его из коридора.
— Здравствуй, — сказал Виконт по обыкновению официально. — Где ты шляешься так долго, я тебе в пятый раз звоню.
— Только что пришел. Работал. Штевкаю вот сейчас…
— Ты повестку получил?
— Какую еще повестку?
— Ладно, я сейчас к тебе приду, — сказал Виконт недовольно.
— Какую повестку?! — рявкнул он, но в трубке уже шли короткие гудки.