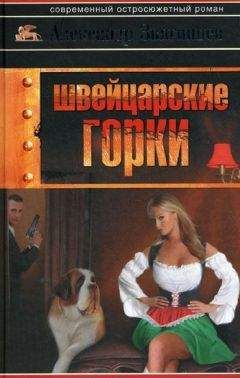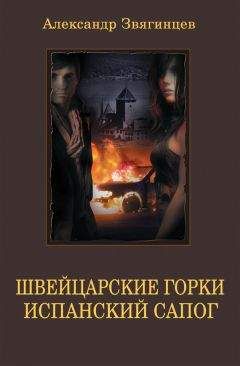Александр Звягинцев - Принуждение к любви
Берендеи - словечко Веригина. Валит толпа веселых берендеев - его любимое выражение.
Кроме берендеев были еще в его лексиконе фаранги. Если берендеев он насмешливо и несколько брезгливо терпел, то фаранги были врагами. Берендеев, говорил он, еще можно чем-то пронять, они еще могут перемениться, испытать какие-то человеческие чувства. Набитые же под завязку жизненными благами фаранги с бычьими затылками и их телки - существа непоколебимые, не пробиваемые ничем, убежденные в своем праве жрать и пить больше других. Их морды за темными стеклами иномарок, замороженные тупым выражением бесконечного превосходства над остальными, были лицами другого народа, с которым нельзя договориться, у которого не стоит просить пощады. Ибо хотят они только одного - давить и опускать тех, кто слабее. На их презрение, считал он, можно отвечать только ненавистью. И эта ненависть не подлежит осуждению.
Выраженьице это, фаранги, он привез из Таиланда. Так тайцы, объяснил он мне как-то раз, называют приезжих из Европы и Америки, бледнолицых варваров с карманами, набитыми деньгами. Фаранг вечно пьян, высокомерен, глуп и желает лишь одного - ублажать себя, тупую скотину. Он уверен, что ему все позволено и все вокруг ему обязаны. А еще Женька рассказал, что тайцы никогда не были колонизированы, не знали над собой западного сапога и хлыста и поэтому поначалу отношение к чужеземцам-фарангам было у них, в общем, человеческое, по-тайски добродушное. Но эти, и прежде всего американцы, показали им, что на душе у настоящего фаранга, который смотрит на других, как на зверей в зоопарке. И это в лучшем случае.
Хуже фарангов в системе веригинского мироздания были лишь малолетние гаденыши, стаями толкущиеся у подъездов и грязных скамеек, наплевывая рядом с собой целые лужи гнилой слюны, а теперь научившиеся у приезжих азиатов часами сидеть на корточках, словно справляя нужду на глазах у всех. Они смотрят вокруг себя злобными, обиженными шакальими глазами и готовы за медный пятак убить любого. А могут убить и просто так, без всякого пятака.
Сам я человек невеселый, хотя и могу при необходимости изобразить радость жизни и беспечное довольство окружающим. Но Веригин был человеком и вовсе сумрачным. Приступы депрессии и неконтролируемого отчаяния накатывали на него постоянно, а со временем все чаще. Никаких особых поводов для этого не требовалось, вызвать их мог вполне обычный житейский пустяк, потому что какой-то темный ужас давил его сознание непрестанно. Его одиночество шло от невозможности объяснить причины этого ужаса перед жизнью, от стыда за него, от желания скрыть от других…
И вот теперь мне надо выяснить, что же с ним произошло. Тем более что меня подозревают в причастности к его смерти. А это значит, что мне надо реанимировать все мои навыки следственной работы, с которой я сбежал в свое время.
Моя карьера следователя, как я уже говорил, была недолгой. Я очень быстро почувствовал, что ловить и изобличать попавшихся под руку нарушителей закона, когда вокруг крадут и жаждут обогащения любой ценой абсолютно все, занятие не для меня. Я не такой уж моралист и чистоплюй, больше того, мое отношение к жизни и людям вполне хладнокровно, но я так и не смог обрасти необходимой шкурой равнодушия, без которой невозможно денно и нощно разбираться в диком месиве пороков и преступлений, с которым приходилось сталкиваться на службе. А высоких идеалов и стремления к мессианской деятельности, которые замещали бы отсутствие толстой шкуры, у меня тоже не обнаружилось. Я не смог убедить себя в том, что нынешние законы, многие из которых пекутся сейчас на потребу дня, должны быть превыше всего и пусть погибнет все ради торжества их духа и буквы. Увы, дух слишком быстро улетучивается, а оставшаяся буква далеко не всегда помогает торжеству моральных заповедей.
Когда я все это уже сформулировал для себя, случилась одна история…
Позвонил какой-то молодой человек и сказал, что он вернулся утром домой и нашел своих родителей убитыми. Картина, которая предстала перед нами, была страшной. Родителей парня убили гантелью. Убивали их во сне. Сначала мать, а потом отца. Они спали в разных комнатах хорошей трехкомнатной квартиры. Били прямо по лицам, от которых осталось только кровавое месиво. Окровавленная гантель валялась тут же. Сам пацан провел эту ночь у своей невесты.
Звали его Алеша… Алеша Грушин. Очень хорошенький, чистенький, застенчивый, с девичьими ресницами. Улыбка только у него была какая-то странная. Вроде бы приветливая и тихая, но в то же время будто с неким тайным смыслом.
Мы стали выяснять все, что можно, про семью Грушиных. И тут мне вдруг позвонил Веригин, и выяснилось, что он с Трушиными хорошо знаком. Мы встретились. Веригин выглядел оглушенным случившимся. С каким-то отчаянием и недоумением вспоминал, что буквально накануне Катя Грушина с сыном Алешей была у него в редакции. Отец Алеши был театральным актером, не слишком известным и не очень талантливым, но вполне крепким и успешным. В последнее время он увлекся писанием стихов и рассказов, которые понемногу стал печатать то тут, то там. А Катя была художником-любителем и работала в небольшом журнале в отделе искусства - писала статьи и рецензии. Как рассказал Веригин, у них было редкое по нынешним временам единение душ и интересов. Муж читал Кате свои стихи, она показывала ему свои картины.
Когда я спросил, были ли у них враги, Веригин пожал плечами - какие у таких людей могут быть враги? Единственное, что их как-то беспокоило, - невеста Алеши. Девочка была из актерской семьи, о которой ходили неприятные слухи.
- Витя, Катин муж, работал когда-то с отцом этой невесты в одном театре, они враждовали, потом даже здороваться перестали. Витя считал его грязным типом, - пояснил Веригин.
- Может, они запрещали Алеше с ней встречаться? Давили на него - не хотели, чтобы он на ней женился?
- В душе они, конечно, были против, но на Алешку не давили. Они на все бы согласились, ведь ради него они и жили… Сначала у них была девочка, которая умерла в семь лет в каких-то жутких мучениях. Они это еле пережили, чуть с ума не сошли. Долго не решались снова заводить ребенка. Так что, когда родился Алешка, они на него разве что не молились.
- А чего она к тебе в редакцию его привела?
- Знакомить. Он же на театроведческом учился, вот она его и учила ходить по редакциям. Принесла статью за его подписью. Я посмотрел и сразу понял, что статью написала она сама, но говорить ничего не стал. Единственное, что спросил, почему подпись такая странная - Алексей Барсов. Катя сказала, что они на семейном совете решили, что появление третьего Грушина в их достаточно узком мире как-то слишком. А мне почему-то показалось, что псевдоним - это идея Алеши. Они возражать не стали, хотя и обиделись на то, что он хочет быть как бы отдельно от них.
А после Веригина подъехали возбужденные опера и сказали, что в показаниях Алеши сплошное детское вранье и несовпадения. Он ушел от невесты после двенадцати ночи, а около часа его видели входящим в подъезд собственного дома. Потом он засветился около шести утра на улице, его вспомнила продавщица круглосуточной палатки - он покупал сигареты… Ну и невеста, когда на нее уже плотно наехали, призналась, что он у нее не ночевал.
- Ну и что все это значит? - тупо спросил я.
Ребята мне объяснили. Весьма доступно. Или этот Алеша спугнул убийцу, а потом сам убежал от страха из дома. Или он сам впустил его, а потом, когда все было кончено, убежал. Или…
- Или что? - не выдержал я. - Сам убил мать и отца? Спящих? Гантелью?
Вообще-то я хотел сказать это с сарказмом, но у меня что-то пересохло в горле. И еще я сразу понял, что это правда. Убил. Мать и отца. Спящих. Тяжелой черной гантелью. Бил по лицам…
Он сразу сознался. И рассказал, как все было. Пришел домой, дождался, когда родители заснут, а ложились они поздно, прокрался в чулан, где хранились гантели… В какой-то момент, когда он был у матери и бил второй раз, ему показалось, что отец проснулся. Чуть не уронил гантель от страха. Но отец спал. Потом все убрал, вышел из дома, погулял в парке, подремал на скамейке, вернулся домой и позвонил в милицию. Почему столько ждал? Чтобы люди видели утром, как он входит в дом. За что? Он чувствовал, что они настроены против его женитьбы и не дадут им спокойно жить. А без них они вдвоем с невестой так хорошо могли бы жить в трехкомнатной квартире!.. Да, в той самой, где он убил мать и отца. Невеста знала? Нет. Он ей ничего не говорил, не посвящал.
Я видел эту невесту, и никто не смог бы убедить меня, что она ничего не знала. Во время суда конвоиры перехватили записку, которую она ему пыталась сунуть. Держись, все будет хорошо, после экспертизы сможешь выйти на свободу, целую…
А еще была его бабушка, мать Кати. Которая всем говорила, что Алеша ни в чем не виноват, что его оклеветали, она будет жаловаться и добиваться справедливости. Что ж, ее можно было понять. Катя была ее единственной дочерью, муж давно умер, она была совершенно одинока. А жить дальше с мыслью, что твою единственную дочь убил ее сын, твой единственный внук, последний на этом свете родной человек, видимо, нельзя.