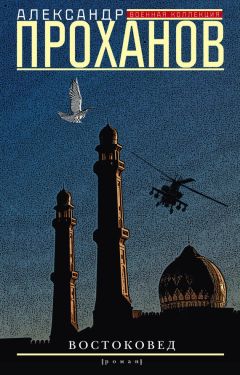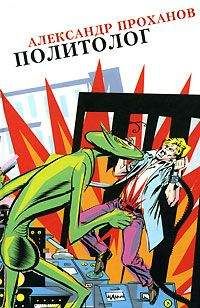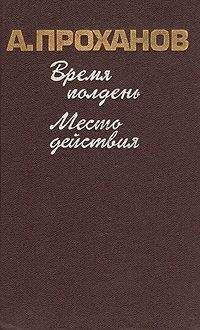Александр Проханов - Человек звезды
— «Незыблемые стены каземата…» — прошептала Вера. Строка была единственная из всего стихотворения. Аристарх записал в блокнот, не давая исчезнуть зыбкому звуку.
Колокол звенел печально и возвышенно. Садовников улавливал в звонах голос жены. Это она прозрачной тенью улетала в лазурь и возвращалась, принося на землю строку неумирающего стиха.
— «И милосердных рук прикосновенье…» — другая женщина произносила слова, те, что ей нашептала жена.
— «Все длится ночь докучливых вопросов…» — удары колокола улетали и, пройдя через миры, описав таинственные круги, возвращались, как возвращался на ковчег голубь, неся в клюве зеленую ветку.
— «Пусть палачи возьмут мои одежды…»
Садовников вдруг испытал невыносимую боль. Эта была тоска умирающего поэта, который оказался замурованным в темные пласты небытия без всякой надежды быть услышанным. В глухоте, где нет ни эха, ни отзвука, продолжал петь, дрожа своим соловьиным горлом. Лежа на грязных нарах, из последних сил заносил божественный стих на поля газеты, зная, что ее кинут в огонь.
— «Покров не уберег свой липкий снег…»
Это была мольба хрупкой, созданной для блаженства души, которую убивали среди жестокого мира, куда по ошибке она залетела. Душа, погибая среди криков конвоя, хриплого лая овчарок, ругани барачных невольников, грезила о лазурных морях и розовых мраморных храмах.
— «Там черной жабой притаилась смерть…»
Садовников бил в колокол, посылая душе поэта свое обожание, обещал посвятить жизнь поискам пропавших стихов, своей любовью и молитвенной мечтой совершить чудо воскрешения. Вера, шептавшая бледными губами случайные строчки, участвовала в этом чуде. В нем участвовала жена, напитавшая колокол своими песнопениями. И все они двигались в едином кругу, соединенные музыкой сфер.
— «Таинственный обряд кровосмешенья…»
Садовников смотрел на Веру и вдруг почувствовал, как дорога ему ее беззащитная, раненая душа. Как много она, рожденная для солнечного счастливого танца, претерпела. Как преданно и стойко станет он ее защищать, не пуская к ней тьму.
— «В глазах померк божественный акрополь…»
Это была последняя строка, уловленная колоколом в ноосфере. Садовников еще некоторое время посылал звоны в небо. Но Вера молчала. Больше не слышала стихов. Садовников устало отпустил веревку, и колокол успокоился. Висел, величественный и немой, с золотой Богородицей и молитвой.
— Прочитай, что успел записать, — попросил Аристарха Садовников. И тот, повернув блокнот к солнцу, стал нараспев читать:
Гончарных чаш багровое вино.
Незыблемые стены казематов.
И милосердных рук прикосновенье.
Все длится ночь докучливых вопросов.
Пусть палачи возьмут мои одежды.
Покров не уберег свой липкий снег.
Там черной жабой притаилась смерть.
Таинственный обряд кровосмешенья.
В глазах померк божественный акрополь.
— Пусть люди бьют в колокол, и колокол допишет стихи, — Садовников простился с Аристархом и повел Веру к машине.
Дома они сидели за столом, разделенные полосой красного вечернего солнца. Она спросила:
— Кто вы? Почему от ваших рук исходит целебная сила? Почему я слышала сегодня этот измученный голос? Как вы получили этот дар?
— Не знаю. Это вышло само собой, — неохотно ответил Садовников.
— Не хотите рассказать? Я знаю, что в человеке заключены могучие силы. Но они запечатаны. Если их распечатать, человек обретает могущество. Андрей говорил, что танцем можно разбудить дремлющий мир, вызвать к жизни огромные энергии. Танцовщицы, ударяя ногами сухую траву, добыли для человечества огонь. Танцоры, водя хороводы, изобрели колесо.
— Вы с шаманом Василием Васильевым своими танцами оживили дуб.
— Откуда в вас этот дар? Кто вам его передал?
Садовников молчал, глядя, как красная полоса легла на верстак, под ноги Николы, и казалось, перед святым постелили красный ковер. Садовников подумал, что со смертью жены у него исчез собеседник, и несколько лет он ни с кем не говорит по душам. Никому не может сказать, что полоса вечернего солнца похожа на прекрасный ковер. Что сегодня, слушая колокол, испытал невыносимую боль. Что вчера ему приснился сон, будто он медленно ступает в холодную воду, и мимо, касаясь его плавниками, скользят темные рыбы. И вдруг ему захотелось рассказать этой женщине, как в нем возник загадочный дар ясновидения. Как внезапно стало горячо его сердцу, и он понял, что смерти нет. Что в мире не существует врагов, и божественная жизнь дышит в крохотной горной былинке, в сером, исхлестанном пулями камне, и в нем, Садовникове, сжимавшем ручной пулемет. Ему захотелось ей обо всем рассказать, надеясь увидеть отклик в ее близких темно-карих глазах.
— Это было в Афганистане, в горах, куда высадили нашу группу десантников.
— Вы были на войне?
— Я был молодым командиром, и нас высадили на двух вертолетах в горном районе, чтобы мы ударили в тыл моджахедам…
И снова с горячим свистом винты рассекали воздух. Зеленый борт с красной звездой. И солдаты прыгали на камни, бежали из-под винтов и ложились, направляя оружие на соседние склоны. Машины, одна за другой, взлетали, отваливали в сторону. И вдруг открылась сияющая пустота, пахнул душистый ветер вершин, полетел над пепельно-розовым склоном. И в небе, прозрачный, как облако, вознесся голубой ледник.
— Нас высадили на высоте, с которой мы должны были незаметно спуститься в долину и разгромить опорный пункт неприятеля. Но, видимо, не доглядела разведка, район, куда нас посадили, кишел моджахедами, и мы сразу же попали под шквальный огонь. С соседнего склона бил пулемет, и его вспышки напоминали зеркальные зайчики света, а удары пуль рассекали камни, и я помню, как брызнули крошки от соседней глыбы, и запахло расколотым кремнем. У нас сразу же появились потери, и пока мы меняли позицию, укрываясь в складках горы, двое солдат были ранены и один убит, маленький остроносый белорус, который смешно копировал крики фазанов, павлинов и пестрых кегликов. Мы отстреливались, били из гранатометов по склонам, я из ручного пулемета старался подавить огневые точки, легкие клубеньки дыма, из которых летели красные трассеры, и эти зеркальные мерцания, от которых гора трещала по швам. Я понял, что нас перебьют, и стал вызывать вертолеты, благо, они еще петляли где-то рядом, в горах. Передо мной лежал тусклый розовый камень, в который уже несколько раз ударяли пули. Около камня дрожала на ветру тонкая былинка с крохотным синим цветком. А вокруг, прячась в морщинах горы, укрывались от очередей солдаты. Я видел их серые панамы, подошвы ботинок, пульсирующее пламя их автоматов, и санинструктора, который бинтовал раненых, и убитого белоруса, его, похожий на клювик, остренький носик…
Садовников поразился, как сочно, во всей полноте, прошлое возвращает ему исчезнувшие картины и чувства. Страх за себя. Ужас от мысли, что вверенный ему взвод будет истреблен на горе. И то, что он живет на земле последние минуты. И тот высокий прозрачный ледник, и былинка с синим цветком, и расколотый пулями камень, — это последние в его жизни видения. И он направлял пулемет на соседнюю гору, по которой бежала цепочка враждебных стрелков.
— Послышался звук вертолетных винтов. Из-за вершины показалась одна машина, второй почему-то не было. Вертолет приземлился на узкую площадку, на самом краю откоса. Мы стали спускаться к ней, и я прикрывал отход. Погрузили на борт убитого, потом двух раненых, потом стали забираться солдаты. Несколько пуль ударили, продырявив обшивку. Летчик махал руками, давая понять, что погрузка закончена, что вертолет взял на борт избыточный вес, что он не взлетит в горах, где воздух разрежен и падает подъемная сила винтов. На земле оставались я и сержант, здоровый саратовский парень с малиновым румянцем, которому через месяц возвращаться домой, и он говорил, что сразу сыграет свадьбу…
Вертолетный борт со звездой. Размытый блеск винтов. Летчик показывает грязный палец, и это значит, что только один может подняться на борт. Лица солдат, напряженно глядящие из темного проема дверей. Близкое белобровое лицо сержанта с мучительной складкой на лбу. Перебегает по дальнему склону цепочка врагов. И он толкает в плечо сержанта, направляя его к вертолету. Тот цепким сильным прыжком ныряет под винты, и солдаты из проема кидают на землю автоматные магазины, пеналы гранатометов, чтобы их командир мог еще отбиваться и жить, слыша, как удаляется звон вертолета.
— Я чувствовал, как с горы, откуда стреляли и где скапливались моджахеды, — их шаровары, тюрбаны, долгополые облачения, — оттуда летела прозрачная мгла. Я знал, что это летела смерть, моя, моих солдат, вертолетчиков, и этой былинки с цветком, и голубого ледника, — все накрывала смерть, перед которой нужно отступить, побежать или пасть ниц. И я был готов бежать, но какая-то сила, из-под сердца, в которое летели пули, толкнула меня вперед, навстречу смертоносной тени. Я не кричал, не молился, не искал в небе Бога, а только всей своей жизнью отталкивал смерть. Я почувствовал, как что-то полыхнуло вокруг, но не взрыв, а бесшумный всплеск света, который отбросил тень, наполнил меня легкостью и счастьем. Я вдруг ощутил свою бессмертную связь с этими молодыми, исцарапанными о камни людьми, с вертолетчиком в пятнистом комбинезоне, с голубым ледником, розовым камнем и безымянной былинкой. И даже с врагами, которые стремятся меня убить. Это длилось одно мгновение, но оно преобразило меня. Я оглянулся, и вертолетчик манил меня рукой. Я собрал оружие и залез в машину. Вертолет был перегружен, не мог взлететь. Моджахеды приближались, прыгая по камням, как козы. Летчик направил машину к обрыву, кинул ее в пропасть. Вертолет стал падать, снижался, достиг отметки, где воздух стал плотнее, и винты зацепились за этот плотный воздух. Вертолет полетел, и мы вернулись на базу. После этого я стал другим. Во мне открылись неведомые прежде возможности.