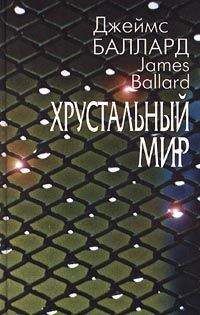Джеймс Баллард - Утонувший великан (сборник рассказов)
Черная кожаная обивка двери была испещрена надписями. Изящные строки пересекались без всякой системы, образуя прихотливый рисунок, напоминающий филигранный орнамент старинного подноса.
Прикрыв за собою дверь, я вошел в гостиную. Стены казались темнее обычного, и я увидел, что вся их поверхность покрыта рядами искусно вырезанных букв — бесчисленные строки стихов бежали от пола до потолка. Я взял со стола бокал и поднес его к губам. По голубому хрусталю к основанию бокала спускалась змейка тех же каллиграфических букв:
О, выпей меня без остатка очами…
Стол, абажуры, книжные полки, клавиши рояля, стерео-пластинки — все в комнате было густо покрыто письменами.
Я зашатался, поднял руку к лицу и ужаснулся: вытатуированные строки, как обезумевшие змеи, обвили кисть и предплечье. Уронив бокал, я бросился к зеркалу, висящему над камином, и увидел свое лицо, покрытое такой же татуировкой, — живую рукопись, в которой под невидимым пером на моих глазах буквы рождались и складывались в стихи:
Прочь, змеи с раздвоенным жалом разящим,
Прочь, сети плетущее племя паучье…
Я отпрянул от зеркала, выбежал на террасу, оскальзываясь на кучах цветных лент, занесенных вечерним ветром, и перемахнул через перила. В считанные секунды добежал я до виллы номер пять, промчался по темнеющей аллее и оказался перед черной парадной дверью. Не успел я коснуться звонка, как дверь открылась, и я ввалился в знакомый коридор.
Аврора Дей ожидала меня, сидя в шезлонге у бассейна. Она кормила древних белых рыб, сгрудившихся у стенки. Когда я подошел, она тихо улыбнулась рыбам и что-то прошептала им.
— Аврора! — закричал я. — Сдаюсь! Ради бога, делайте что хотите, только оставьте меня в покое!
Какое-то время она продолжала кормить рыб, как бы не замечая меня. Жуткая мысль промелькнула в моем мозгу: эти огромные белые карпы, что тычутся в ее пальцы, — не были ли они некогда любовниками Авроры?
Мы сидели в светящихся сумерках. За спиной Авроры на пурпурном полотне Сальватора Дали «Упорство памяти» играли длинные тени. Рыбы неторопливо кружили в бассейне.
Она выдвинула условия: полный контроль над журналом, право диктовать свою политику, отбирать материал для публикации. Ни одна строчка не может быть напечатана в «Девятом вале» без ее согласия.
— Не беспокойтесь, — сказала она небрежно. — Наше соглашение распространяется только на один выпуск.
К моему удивлению, она не выказала никакого желания напечатать собственные стихи — пиратская акция с последним номером журнала была лишь средством поставить меня на колени.
— Вы думаете, одного выпуска будет достаточно? — спросил я, стараясь понять, чего же она добивается.
Аврора лениво подняла глаза, рассеянно водя пальцем с зеленым лаком по зеркалу бассейна.
— Все зависит от вас и ваших коллег. Когда наконец вы образумитесь и снова станете поэтами?
Узор на воде каким-то чудом оставался видимым, не расплывался.
За те часы, похожие на тысячелетия, что мы провели вместе, я рассказал Авроре все о себе, но почти ничего не узнал о ней. Лишь одно было ясно — она одержима поэзией. Каким-то непостижимым образом она считала себя лично ответственной за упадок, в который пришло это искусство, но предлагаемое ею средство возрождения поэзии, как мне казалось, привело бы к обратному результату.
— Вам непременно нужно познакомиться с моими друзьями, приезжайте к нам, — сказал я.
— Обязательно, — ответила Аврора. — Надеюсь, что смогу им помочь — они многому должны научиться…
Я только улыбнулся.
— Боюсь, у них на этот счет мнение иное. Почти все они считают себя виртуозами. Для них поиски идеальной формы сонета закончились много лет назад — компьютер других не производит.
Аврора презрительно скривила губы.
— Они не поэты, а просто инженеры. Взгляните на эти сборники так называемой поэзии. На три стихотворения — шестьдесят страниц программного обеспечения. Сплошные вольты и амперы. Когда я говорю об их невежестве, я имею в виду незнание собственной души, а не владение техникой стихосложения, я говорю о душе музыки — не о ее форме.
Аврора умолкла и потянулась всем своим прекрасным телом — так расправляет свои кольца удав, — потом наклонилась вперед и заговорила очень серьезно:
— Не машины убили поэзию — она мертва потому, что поэты не ищут более источника истинного вдохновения.
— Что есть истинное вдохновение? — спросил я.
Она грустно покачала головой:
— Вы называете себя поэтом — и задаете такой вопрос?
Пустым, равнодушным взглядом она смотрела в бассейн. Лишь на короткое мгновение на лице Авроры отразилась глубокая печаль, и я понял, что ею владеет горькое чувство вины, ощущение беспомощности — будто какое-то ее упущение явилось причиной столь тяжкого недуга, поразившего поэзию. И тут же мой страх перед нею рассеялся.
— Вам приходилось слышать легенду о Меландер и Коридоне? — спросила Аврора.
— Что-то знакомое, — сказал я, напрягая память. — Меландер была, кажется, музой поэзии. А Коридон… Не придворным ли поэтом, убившим себя ради нее?
— Неплохо, — сказала Аврора. — Кое-что вы все-таки знаете. Да, в один прекрасный день придворные поэты утратили вдохновение и прекрасные дамы отвергли их, отдав предпочтение рыцарям. Тогда поэты отыскали Меландер, музу поэзии, и та сказала, что наложила на них заклятье, ибо они стали слишком самонадеянными и поза были, кто является источником поэзии. Нет, нет, запротестовали поэты, они, конечно же, ни на миг не забывали о музе (наглая ложь), но Меландер отказалась им верить и заявила, что не вернет им поэтической силы до тех пор, пока кто-либо из поэтов не пожертвует ради музы собственной жизнью. Никто, естественно, не захотел принести себя в жертву — за исключением молодого и очень одаренного Коридона, который любил Меландер и был единственным, кто сохранил свой дар. Ради остальных поэтов он убил себя…
— …к безутешной скорби Меландер, — закончил я. — Муза не ожидала, что он отдаст жизнь ради искусства. Красивый миф. Но здесь, боюсь, вы Коридона не найдете.
— Посмотрим, — тихо сказала Аврора. Она поболтала рукой в бассейне. Отраженные разбившимся зеркалом воды блики упали на стены и потолок, и я увидел, что гостиную опоясывает фриз в виде целой серии рисунков, а сюжеты их взяты из той самой легенды, которую только что рассказала Аврора Дей. На первом, слева от меня, поэты и трубадуры столпились вокруг богини — высокой женщины в белом одеянии, удивительно похожей на Аврору. Скользя взглядом по фризу, я получил подтверждение еще более разительного сходства хозяйки виллы и музы и пришел к выводу, что Меландер художник писал с Авроры. Не отождествляла ли она себя с мифологической богиней и во всем остальном? И кто в таком случае был ее Коридоном? Не сам ли художник? Я вгляделся в рисунки. Вот он, покончивший с собой поэт, — стройный юноша с длинными белокурыми волосами. Я не понял, кто служил моделью, хотя что-то знакомое было в его лице. Зато другой персонаж — он присутствовал на всех рисунках, занимая место позади главных фигур, — не вызывал у меня сомнений: то был шофер с лицом старого фавна. Здесь — на козлиных ногах и со свирелью — он изображал Пана.
Я обнаружил было знакомые черты и у других персонажей, но тут Аврора заметила, что я слишком внимательно рассматриваю фриз. Она вынула руку из бассейна, вода снова застыла. Блики света угасли, и рисунки утонули во мраке. С минуту Аврора пристально смотрела на меня, как бы вспоминая, кто я такой. Печать усталости и отрешенности легла на прекрасное лицо — пересказ легенды, по-видимому, пробудил в глубинах ее памяти отзвуки некогда пережитых страданий. Потемнели, стали мрачнее коридор и застекленная веранда, как бы отражая настроение хозяйки дома, — присутствие Авроры имело такую власть над окружающим, что казалось, сам воздух бледнел, когда бледнела она. И снова я почувствовал, что ее мир, в который я невольно вступил, был целиком соткан из иллюзий.
Аврора уснула. Все вокруг погрузилось в полутьму. Померк свет, исходивший от бассейна. Хрустальные колонны утратили блеск, погасли и стали невзрачными тусклыми столбами. Лишь на груди Авроры светилась драгоценная брошь в форме цветка.
Я встал, неслышно подошел ближе и заглянул в это странное лицо — гладкое и серое, как лица египетских изваяний, застывших в каменном сне. У двери замаячила горбатая фигура шофера. Козырек надвинутой на лоб фуражки скрывал его лицо, но впившиеся в меня настороженные глазки горели, как два уголька.
Когда мы вышли, сотни спящих скатов усыпали залитую лунным светом пустыню. Осторожно ступая между ними, мы добрались до машины. «Кадиллак» бесшумно тронулся.