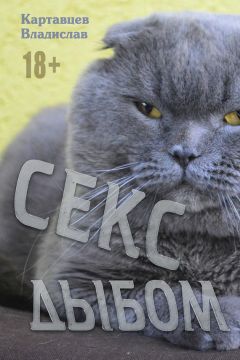Луи-Себастьен Мерсье - Год две тысячи четыреста сороковой
— Как же вам это удалось? Расскажите, прошу вас!
— Мы с общего согласия свезли на обширную равнину все те книги, которые сочтены были либо легкомысленными, либо бесполезными, либо опасными; мы сложили из них пирамиду высотой с огромную башню, и поистине то была новая Вавилонская башня.{137} Причудливая сия постройка была увенчана газетами, ее обложили со всех сторон всякого рода пастырскими посланиями, парламентскими представлениями, обвинительными речами и надгробными словами. Ее составили пять или шесть тысяч словарей, сто тысяч томов судебных решений, сто тысяч поэм, шестнадцать тысяч описаний путешествий и один миллиард романов. Всю эту устрашающую груду мы подожгли, и это было как бы жертвоприношение истине, здравому смыслу и хорошему вкусу. Пламя поглотило потоки человеческих глупостей, как древних, так и новых. Костер горел долго. Некоторые авторы присутствовали при том, как их сжигают заживо, но вопли их нас не остановили; потом, правда, мы обнаружили среди золы несколько страничек из сочинений П…, де ла Г… и аббата А…,{138} с которыми само пламя не в состоянии было справиться, до того холодно они были написаны. Так, движимые разумом, мы вновь свершили то, что в слепом усердии своем делали варвары. Однако в отличие от сарацинов, которые шедеврами топили свои бани,{139} мы были справедливы и предварительно произвели отбор. Люди, обладавшие здравым умом, из тысячи толстых фолиантов извлекали главную их суть и перелагали ее в небольших книжицах в 12-ю долю листа, действуя подобно тем искусным химикам, что извлекают сок из растений, собирают его в колбу, а остальное выбрасывают.[121]
Мы сделали краткие извлечения из наиболее стоящего и лучшее издали вновь, предварительно выправив все это в соответствии с требованиями истинной морали. Нация весьма ценит и почитает людей, выполнивших сей труд; компиляторы эти обладали хорошим вкусом и, поскольку сами способны были творить, сумели отобрать самое цепное, отвергнув то, что таковым не являлось. Мы заметили (ибо нужно быть справедливым), что малое количество книг присуще одним лишь истинно философским эпохам, в ваш же век, когда за неимением достаточных данных еще не было подлинных и глубоких знаний, для оных грудами скапливали материалы. Прежде чем за дело берется архитектор, рабочие закладывают фундамент. Всякая наука вначале разрабатывается частями; каждый сосредоточивает внимание на том участке, который достался ему в удел. Благодаря этому ничто от науки не ускользает, вплоть до мельчайших фактов. Бесчисленное количество работ, написанных вами, было необходимостью; это уже наше дело было собрать все эти разрозненные части воедино. Людям невежественным и полузнайкам свойственна многоречивость; человек мудрый и образованный немногословен, но он всегда говорит с толком. Видите эту комнату? Здесь собраны книги, избежавшие огня. Их немного, но это те, кои снискали одобрение нашего века.
С любопытством приблизился я к первому шкафу. Я увидел, что из греков оставлены были Гомер, Софокл, Еврипид, Демосфен, Платон и особенно много сочинений любезного нам Плутарха; однако Геродот, Сапфо, Анакреон и мерзкий Аристофан{140} подверглись сожжению. Я попытался сказать что-то в защиту уничтоженного Анакреона, однако в ответ услышал весьма убедительные доводы, кои не стану здесь излагать, ибо их не поняли бы в мое время.
Во втором шкафу, предназначенном для латинских авторов, я обнаружил Вергилия и всего Плиния, а также Тита Ливия.[122] А вот Лукреций, за исключением нескольких отрывков, весь был сожжен, ибо физика его неверна, а мораль опасна. Уничтожению подверглись также пространные речи Цицерона, бывшего скорее ловким ритором, нежели красноречивым оратором; однако сохранены были философские его сочинения, являющие собой один из самых ценных памятников древности. Сохранен был Саллюстий; что до Овидия и Горация, то их подвергли чистке: оды Горация оказались значительно ниже его посланий.[123] От Сенеки осталась едва ли не четвертая часть. Тацит был сохранен, но поскольку во всех сочинениях его господствует какой-то мрачный колорит, вследствие чего человечество предстает нам в черном свете, — тогда как не следует внушать дурное мнение о природе человека, ибо не тираны его представляют, — чтение сего глубокомысленного автора дозволяется лишь людям с благородным сердцем. Катулл исчез, исчез и Петроний. Квинтилиан{141} весь уместился в тонкой книжице.
В третьем шкафу узрел я книги английские. Именно здесь было наибольшее количество томов. Тут встретил я всех философов, которых породил этот воинственный, торговый и осмотрительный народ. Мильтон, Шекспир, Поп,{142} Юнг,[124] Ричардсон{143} все еще не утратили своей славы. Их созидательный гений, никем не стесняемый (не в пример нам, которые вынуждены были обдумывать каждое слово свое), плодотворящая сила этих свободных душ вызывали восхищение придирчивого века. Мелочные упреки в отсутствии вкуса, которые мы высказывали им,{144} были забыты: те, кто привлечен был здоровыми и верными их идеями, давали себе труд читать их и способны были размышлять над прочитанным. Однако из числа философов изъяты были те опасные скептики,{145} что тщились расшатать основы морали. Этот добродетельный народ, руководимый чувством, презрел все пустые их словопрения, и ничто не смогло убедить его, будто добродетель — всего лишь химера.
В четвертом шкафу хранились книги итальянские. На видном месте увидел я «Освобожденный Иерусалим»,{146} самую прекрасную из знаменитых поэм. Но было сожжено множество критических статей, направленных против этой поэмы. Знаменитый трактат «О преступлениях и наказаниях» издан был со всем возможным совершенством, которого заслуживало это достославное сочинение. Я был приятно изумлен, увидев целый ряд серьезных философских трудов, вышедших из лона сей нации; она разбила талисман, что, казалось, столь надежно должен был охранять ее от разума и просвещения.
Наконец я добрался до французских писателей. Трепетной рукой схватил я первых три книги — то были Декарт, Монтень и Шаррон.{147} Монтень оказался несколько сокращенным, но, поскольку писатель этот лучше всех знал природу человека, его сочинения сохранили, хотя не все высказанные в них мысли были безупречны. Сожжены были и мечтательный Мальбранш, и печальный Николь, и безжалостный Арно, и жестокий Бурдалу.{148} Схоластические споры всех этих авторов оказались настолько забытыми, что, когда я упомянул о «Письмах к провинциалу»{149} и о борьбе с иезуитами, ученый библиотекарь в своем ответе допустил весьма серьезный анахронизм. Я учтиво исправил его ошибку, за что он искренне меня поблагодарил. Так я и не нашел ни «Писем к провинциалу», ни каких-либо позднейших исторических сочинений, из которых мог бы почерпнуть подробности сего громкого дела — теперь оно казалось столь незначительным! Об иезуитах здесь говорилось так, как мы ныне говорим о древних друидах.{150}
Навечно канула в небытие толпа богословов, нареченных «отцами церкви»,{151} — этих самых казуистических, самых странных, самых неразумных писателей, которые когда-либо противостояли Локкам и Кларкам,{152} — они, заметил библиотекарь, дошли, так сказать, до предела человеческого безумия.
Я открывал одну книгу за другой в поисках знакомых мне имен. Небо, какое опустошение! Сколько толстых томов улетучилось в дыме пожара!
— А где же прославленный Боссюэ,{153} чьи творения в мои времена изданы были в четырнадцати томах ин-кварто?
— Ни одного не осталось, — ответили мне.
— Как! Этого орла,{154} парившего столь высоко, этого гения…
— Сами посудите, что можно было из него сохранить? Да, у него был талант,[125] но он поистине плачевно употреблял его. Мы приняли за правило слова Монтеня:{155} «Не в том дело, кто больше знает, а в том, кто знает лучше». «Всемирная история» этого Боссюэ являла собой не более как жалкую хронологическую канву,[126] вялую и бесцветную. К тому же пространные рассуждения, сопровождавшие сей жалкий труд, были столь выспренны и столь неестественны, что нам трудно поверить, как могло это сочинение читаться в течение более пятидесяти лет.
— Но надгробные его речи, по крайней мере…
— …более всего вызывают нашу досаду. Они написаны рабским, льстивым языком. Что это за служитель всеблагого и праведного бога, что это за поборник мира и правды, который, поднявшись на кафедру, восхваляет коварную политику, скаредного министра, негодную женщину, бессердечного полководца и, весь отдаваясь описанию какой-либо битвы, не роняет ни единой слезы, не упоминает ни единым словом о великом бедствии, опечалившем весь мир? Произнося свои проповеди, он помышлял не о том, чтобы защищать права людей и священным языком религии высказать сокрушительные истины честолюбивым монархам, а более стремился к тому, чтобы о нем сказали: «Как прекрасно он говорит; ежели он так красноречиво славословит не успевших еще остыть мертвецов, сколь же усердно станет он курить фимиам еще живым королям». Мы не жалуем этого Боссюэ. Не говоря о том, что он был высокомерным и жестоким человеком, тщеславным и ловким царедворцем, от него-то и пошли все эти надгробные речи, которых с тех пор столько развелось, что они напоминают погребальные факелы, подобно им источая удушающую вонь. Этот литературный жанр кажется нам самым скверным, самым пустым и опасным из всех, ибо он одновременно и холоден, и фальшив, и безвкусен, и бесстыден; он всегда шел вразрез с общественным мнением, бушующим за теми стенами, в которых оратор напыщенно декламирует, сам потихоньку посмеиваясь над прикрасами, коими он награждает восхваляемого кумира. Взгляните лучше на его счастливого соперника, мягкого и скромного победителя, этого любезного, этого чувствительного Фенелона,{156} автора «Телемака» и некоторых других сочинений, которые мы бережно сохранили, ибо находим в них редкое сочетание чувства и разума.[127] Написать «Телемака», будучи при дворе Людовика XIV, кажется нам удивительной и достойной восхищения добродетелью. Монарх, конечно, не понял этой книги, и это прежде всего и следует поставить ей в заслугу. Разумеется, автору этому недостает более обширных и глубоких знаний. Но сколько силы, благородства и правды в его простодушии! Рядом с ним мы поставили сочинения славного аббата де Сен-Пьера, чье перо не было особенно искусным, но который обладал прекрасным сердцем. За семьсот прошедших лет обрели зрелость высказанные им высокие и прекрасные мысли — те самые, за которые его так высмеивали, называя пустым мечтателем. Ныне мечты его претворены в действительность.