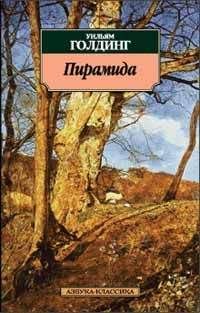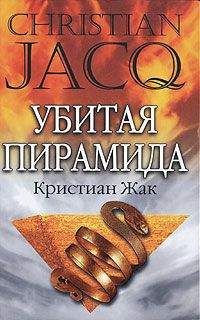Анатоль Имерманис - Пирамида Мортона
А потом я чуть не оторвал ее — с синего неба посыпались пулеметы и бронетранспортеры; они висели на стропах разноцветны парашютов. С борта пакистанского самолета я увидел прыгавших вниз, на паломников, парашютистов, и пока другие операторы показывали зенитчиков у орудий и поднятых по тревоге индийских танкистов, бронетранспортеры с десантниками и пулеметами уже врезались в толпу. Ошалело трещали пулеметы, выли раненые, причитали над трупами близкие, многотысячная толпа продолжала молиться.
Это дикое, бессмысленное избиение паломников даже с точки зрения избалованных телемортоновских зрителей являлось потрясающим эпизодом.
Вошедший в комнату Лайонелл довольным взглядом скользнул по экрану.
Меня душила невыносимая ярость. Все пустозвонные обещания, превращенные в новую пирамиду мертвецов, все эти пышные розы над истлевающим под каррарским мрамором мертвецом, над останками Торы, со смертью которой началось существование Телемортона — даже самый утонченный палач не способен придумать такую пытку.
А пулеметная пальба удалялась. Вместе с ней удалялись берега, на экране остался один лишь священный Ганг, и по его желтоватой глинистой воде, по неторопливому течению — рекой в реке — бежал пенящийся поток багровой крови.
— Вы только что видели последний эпизод индийскопакистанской войны, — возвестил диктор. Размытое бордовое пятно залило весь экран. И сразу — белоснежные пики Гималаев, а совсем внизу — крошечные остроконечные крыши Катманду. Ворота старинного дворца, их охраняют три олицетворения бога мудрости Ханумана — обезьяна, закрывающая себе глаза, обезьяна, затыкающая себе уши, обезьяна, закрывающая себе рот.
В одном из залов этого дворца премьер-министр Индии пожимает руку президенту Пакистана.
11
Слава богу! — Я глубоко вздохнул. Сейчас уже ничто не помешает мне умереть.
— В камере хранения твоего револьвера больше нет, — сказал Лайонелл. — Извини, что не спросил разрешения… И вообще, застрелиться — не самый оригинальный способ. Пофантазируй! Может, найдешь что-то более подходящее для Великого Мортона, которому суждено изменить течение всемирной истории.
— Оставь нас одних, — сказал Мефистофель.
— С удовольствием. Тем более, что у меня совершенно нет времени спасать самоубийц. Хватит забот с этим трогательным индийским миром. Чем я теперь заполню пять часов ежесуточно?
Он ушел. А Мефистофель все еще медлил. Я уже тоже не торопился — раз полка камеры хранения пуста, можно немного задержаться на этой случайной станции, на безнадежной станции жизни, откуда отходит только один поезд — в никуда.
Но почему я решил, что он собирается раскрыть мне нечто важное, а не просто пользуется передышкой после изнурительной битвы за мое сиюминутное спасение?
— Вот, мой мальчик! Прочти, и ты поймешь, отчего не имеешь права умирать.
Уже несколько лет он носил все один и тот же пиджак.
Его карманы были схожи с ящиками письменного стола: первый — только для деловых бумаг, второй для курева и зажигалки, третий еще для чего-то. Один из них, застегнутый на змейку, он никогда не открывал, по крайней мере, при мне. Теперь он вытащил оттуда сложенный вчетверо, стертый на сгибах, пожелтевший от времени квадратный лист.
Разделенный на секторы круг, в нем знаки Зодиака, вверху — дата моего рождения. Я с усмешкой заглянул в гороскоп. Все-таки интересно узнать за день до своих похорон, что тебе напророчили на ближайшие сорок лет.
“Непостоянен, недоволен собой и миром, мечется от одной крайности к другой. Способен быстро увлекаться женщинами и так же быстро остывать. Обостренное чувство совести, толкающее на решительные действия, которым, в свою очередь, противодействует слабая воля. Обладает аналитическим умом, но из-за внутренней противоречивости не умеет им воспользоваться. Циничен, что, однако, не предохраняет от вспышек сентиментальности. Очень талантлив, но, не находя применения своим способностям, склонен считать себя бездарным. Постоянно играет с мыслью о самоубийстве, хотя боится сделать решительный шаг”.
Ну, что ж, этот отвратительный портрет малодушного бунтовщика, типичного представителя современной молодежи, весьма смахивал на меня. Но любой, рожденный под тем же знаком Зодиака, мог вычитать в астрологической рубрике воскресного приложения ту же, примерно, более или менее точную характеристику.
“Во время противостояния Юпитера и Сатурна характер резко меняется. Все лучшие качества, мобилизованные при помощи колоссальной энергии и целеустремленности, начинают оказывать давление на окружающих и расходящимися волнами врываются в саму структуру эпохи. Встретит на своем пути человека такого же недюжинного склада, рожденного под знаком Скорпиона в первую фазу новолуния. Если не оттолкнет из-за крайней противоположности характеров, станет исторической вехой на пути человечества к созданию нового, основанного на разумных началах, сообщества”.
Ну и загнул! Очутись этот горе астролог сейчас в моих руках, уж я бы показал ему “лучшие качества, мобилизованные при помощи огромной энергии и целеустремленности”. Надеюсь, после этого он не смог бы сесть целую неделю.
— Что ты думаешь об этом, Трид? — чуть заискивающе спросил Мефистофель.
— Шарлатанство! Причем до того наглое, что переходит в житейскую философию. Считает всех людей болванами.
— Это в мой адрес? — Мефистофель улыбнулся и, сразу же расслабившись, закурил телемортоновскую сигарету. Первую с того момента, когда Васермута вызвали для дачи показаний. — А чем ты объяснишь, что этот шарлатан за несколько лет продал гороскопов на два с половиной миллиона?
— Той же человеческой глупостью. Умный прочтет и забудет. Дурак, узнав о предреченных ему талантах, настолько уверует, что убедит остальных дураков. А те в один голос: “Вот видите, звезды не врут!” — Неплохое объяснение, но к твоему гороскопу оно не применимо… Первая часть предсказания уже сбылась. Рожденный под знаком Скорпиона — Лайонелл! На, возьми себе! — Он вложил в мою ладонь гороскоп. — И когда опять полезут в голову сумасбродные мысли, вспомни о будущем.
— Если вы считаете, что он мне так необходим, положите вместе со мной в гроб! — Я отдал ему гороскоп и направился к выходу.
— Трид! — Мефистофель заступил мне дорогу. — Пока что я взывал к твоему разуму, но если и это не помогает… Ты, должно быть, забыл, — что, согласно завещанию, через четыре года и девять месяцев вступаешь в полное обладание капиталом. Можешь делать с ним все, что угодно! Клянусь, что не буду препятствовать.
Именно этого я страшился больше всего. Я, действительно, забыл, что опекунство Мефистофеля подходит к концу, забыл просто потому, что никогда не представлял себя наследником отца. Но я много и постоянно думал о том, что станется со мной, если все-таки доживу до этого часа. Немало перевидел я на своем веку людей, начинавших с благостных забот о сирых и обездоленных.
А когда к ним приходили деньги, они становились заурядными живодерами, нередко умудряясь оставаться при этом восторженными гуманистами. Недалекие люди считают миллиард волшебной бутылкой, из которой вызываешь сидящего в ней джина, а уж он сотворит для тебя все, что пожелаешь — великолепнейшие дворцы, прекраснейших женщин, преданных друзей. На деле получается иначе: из свободного человека ты становишься пленником своей волшебной бутылки, беспомощным джином, наглухо закупоренным железной пробкой дальнейшего стяжательства.
— Подумай, Трид! Ты получишь почти десять миллиардов! А лет через пять, если так продолжится, их будет уже двадцать. Представляешь ли ты себе, какая это власть? Достаточная, — чтобы все сокрушить и построить заново — по своему усмотрению.
Я впервые понял, каким он видит путь человечества к основанному на разумных началах обществу — этот бунтарь, потрясавший вместо оружия ключом от сейфа! Он ненавидел сегодняшний мир не меньше меня, но между нами было существенное различие: я поставил на нём крест, а он надеялся его изменить. Чтобы властвовали не политики и лжефилософы, не бездари и случайные удачники, а помноженная на безграничное богатство сила таланта. Его вселенная была вселенной расширяющихся галактик, поглощающих на своем пути старые нембщные светила, дающих толчок рождению новых, более смелых.
Он положил мне руку на плечо и, уже наполовину уверенный в победе, мягко сказал:
— Мир, построенный на доктрине Тридента Мортона — до этого стоило бы дожить! Он ае будет ни прекрасным, ни идеальным — никому не дано превратить человека В ангела. Но, по крайней мере, я уверен в одном — в твоем мире Болдуин Мортон будет работать по своим способностям — обыкновенным сторожем на обыкновенном кладбище.
Он не знал, что затронул во мне самый болезненный рычажок. Я часто нажимал его в своем воображении — и результатом были такие кошмары, какие не снились (Ни одному наркоману. Мечтаешь о власти, чтобы образумить людей, чтобы сделать жизнь хоть чуточку сносной, и кончаешь обратным. Власть — могила самых лучших начинаний, это я уразумел для себя давным-давно.