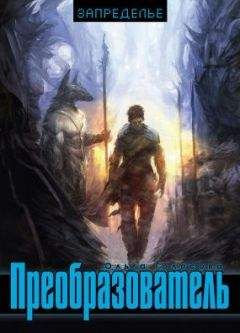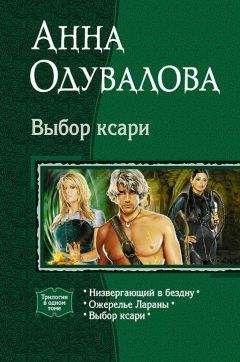Ольга Голосова - Преобразователь
— Ладно, Сережа, давай знакомиться заново, — она затянулась, и линии ее скул обозначились резче. — Я твоя младшая сестра, Анна Марковна Успенская. А ты, Сережа, на самом деле Сергей Маркович Успенский по батюшке. Хотя в завещании ты указан как Сергей Георгиевич Чернов — как и в твоих документах. Но если ты боишься инцеста — я тебя утешу. Я сама его боюсь, — она усмехнулась и посмотрела мне в глаза.
«Боже мой, — подумал я, — это не жизнь, а «Санта-Барбара». Индийское кино».
— А где ты была раньше? — поинтересовался я вслух светским тоном. Не самый умный вопрос, но какой смог, такой и задал.
— Когда «раньше»? После рождения? До встречи с тобой? До сегодняшнего дня?
— Ну, это, всегда.
— Профессор Успенский, а по совместительству Верховный Магистр Гильдии Крысоловов вскоре после исчезновения твоей матери назначил вместо себя наместника и уехал в Бухару. Там как раз в семидесятые годы была очень мощная лаборатория: черные крысы столетиями мигрировали по Великому шелковому пути. Но жизнь там всегда воспринималась как ссылка — удаление от центра. Да и опасно там было всегда. Вечная суннито-шиитская[23] война, фанатики, битвы крысиных кланов за контроль над Средней Азией. Добровольное желание отца поехать туда восприняли как стремление искупить вину, грудью лечь и все такое. Но видимо, они плохо его знали. А может быть, наоборот, хорошо и именно поэтому не препятствовали. А магистру, который стоял на пороге гениального открытия, нужно было только одно — неконтролируемый доступ к подопытному материалу. То бишь к крысам. Он усовершенствовал тамошнюю лабораторию, его исследования поощрялись из центра. Там он женился на местной аборигенке — цыганке, правда, дочери вождя табора. Мы их обычно «баронами» называем. Цыгане не отдают дочерей на сторону, но цыганку можно из табора выкупить. Странный выбор, не так ли? Но папа ничего не делал зря. Моей матери было четырнадцать — самый брачный возраст для тех мест. Отец заплатил богатый выкуп, сыграл свадьбу и… Нет, помилуй, он не был педофилом. Ему был нужен материал… Что может быть логичнее, чем брак крысолова Гильдии с дочерью крысолова от цыган? Наследственность прежде всего! Свежая кровь, так сказать. Мы ведь тоже женимся между своими, как и вы. Цыгане, конечно, напрямую не подчиняюся ни Гильдии, ни вам. Они всегда посередине… И нашим и вашим. Тем и живут, — Анна улыбнулась, и я снова поразился ее чистой восточной красоте.
— Отец получил доступ к цыганским тайнам. Он умел внушить доверие, вовремя сделать подарок, помочь с документами… Мать не могла вызвать у него глубоких чувств, она была неграмотная девочка, побирушка и гадалка. Он не любил ее. Он всегда любил другую. Да-да, крысу, которая родила ему сына.
— Ишь, не побрезговал, — пробормотал я.
Анна вскинула на меня черные глаза.
— Матери было не до смеха. Она умерла вторыми родами в шестнадцать лет. Мальчик умер через день. А крыс у папочки всегда было довольно: цыгане носили их ему десятками. Именно из тех мест, на которые он указывал…
— Только в людей никто не превращался, да?
— Отчего же, превращались. К тому же таких регулярно доставляла Гильдия. Но больше никто не беременел.
Я почему-то представил себе, как проходили эксперименты по осеменению. Вот с электрошокером в руке донор приближается к самке. Та с визгом убегает, на ходу истекая слизью. Контакт не удался. Следующий шаг — стерильная пробирка наполняется спермой и помещается в холодильник. Потом впрыскивается самке во время течки. Та дохнет. Папа чертыхается и выписывает новую партию мужиков, баб и разнополых крыс. Звучит тихая музыка. В стерильной лабораторной постели сходятся двое. Легким движением руки один из них превращается… превращается… превращается в… И снова — черт побери! Вот они, творческие научные поиски! Как там у них? Эксперимент считается доказанным, если может быть повторен?
— Матери я не помню. У отца есть фотографии — черно-белые. Незнакомая цыганка с сережкой в носу, завернутая в покрывало. Иногда я смотрю в ее детское лицо с мертвыми старушечьими глазами и хочу поплакать. Но не могу. Мне до зубовного скрежета жаль ее, как жаль тысячи ни в чем не повинных мусульманских девочек, которых насилуют всю жизнь. И тогда я ненавижу отца. А с другой стороны, ей еще повезло. Она вышла замуж за культурного белого европейца, который подавал ей норковую шубу и нанял прислугу. Он как-то сказал мне, что больше всего на свете моя мать любила сказки. Отец рассказывал ей про Спящую красавицу и Золушку, а она ему — про крысиного короля.
— Надо думать, слушал он их с интересом. А фотки отца у тебя есть?
— Хочешь посмотреть? Сейчас принесу.
Анна куда-то вышла, позвякивая браслетами, и вскоре принесла пыльный альбом в кожаном переплете. Раскрыв сероватые картонные страницы посередине, она ткнула пальцем в одну.
— Вот он.
Мужчине на фотке было лет тридцать — тридцать пять. Сказать, что он был красив, — значит не сказать ничего. Он был совершенен, как портрет Дориана Грея. Только вот, пожалуй, линия рта жестковатая, да в едва наметившихся носогубных складках таилась безжалостная ирония. Кто-то сказал, что ирония — это оружие трусов. Что ж… В его глазах таилась непостижимая жизнь, воля пряталась за этими длинными ресницами, а тонкие пальцы обнимали флейту, как обнимают любовницу. И я понял свою маму. Я бы тоже не устоял. Я вглядывался в черты того, кто дал мне жизнь, и искал в них себя. Я представлял, с какой легкостью эти изящные маленькие руки касались скальпеля, женщины флейты… О, Марк Михайлович вовсе не был похож на профессора. Слегка вьющиеся волосы по тогдашней моде зачесаны назад, пуловер легкомысленно обнажает шею, свободная от инструмента рука лениво покоится на колене.
— Это в молодости. А вот, — Анна перевернула несколько страниц, — его последнее фото. 20** год, Бухара. Больше его фотографий у меня нет. Да я и не видела его с тех пор. Я училась в институте стран Азии и Африки, а он безвылазно сидел у себя в лаборатории.
Анна говорила, а я смотрел на своего отца. Да, он был так же красив. Пепельные волосы коротко подстрижены, стальные глаза смотрят в объектив. Еще более жесткий рот, еще резче складки вокруг него. Морщинки в уголках глаз, глубокая складка между бровей. Белая рубашка расстегнута, на бронзовой от загара груди — медальон на золотой цепи. И прямо на фотографии, внизу ручкой надпись: «Это я». Вопрос или утверждение? А может, сожаление? За спиной отца виднелись далекие горы, какие-то глинобитные хижины, крытые тростником. И все.
— Можно взять какую-нибудь фотографию?
— Бери любую. Твое право.
И я задумался.
— Кстати, он просил меня сохранить это. Из-под надорванного корешка альбома Анна вытащила письмо. — Это к твоей матери. Прочти, если хочешь.
Она бросила свернутый в трубочку листок поверх фотографий и вышла.
Я взял письмо.
Как там говаривал Гамлет призраку? «Внимать тебе — мой долг»?
«Зоя, под этим именем я тебя знал и под этим именем тебя лишился. Прости меня. Я не верю, что ты когда-нибудь это прочтешь, но я пишу тебе с упорством насекомого. Прости меня. Когда я это пишу, я чувствую, я знаю, я уверен, что ты меня простила. Ты никогда не могла по-другому. Я бы хотел, чтобы наш сын вырос человеком и никогда не узнал бы правды ни о тебе, ни обо мне, ни о тех, кто стоит за нами. Я люблю тебя. Я почувствовал это только тогда, когда потерял тебя навсегда. Ты знала это и раньше. Я нашел то, что искал, но как бы я хотел быть самым последним кретином, простым сантехником или черт знает кем, лишь бы никогда не делать того, что делал. Зоя, я люблю тебя. До встречи там, где мы будем свободны.
P. S. Сын, если ты когда-нибудь это прочтешь, то знай: я не прошу прощения у тебя. Не дело отцу виниться перед ребенком. Я оставил тебе то, ради чего погубил себя и твою мать. Сын, будь человеком, а не зверем — выбор есть всегда».
Я дочитал письмо, и первым моим желанием было выхватить из кармана зажигалку и спалить его к чертовой матери. Но потом я внимательно перечитал его еще раз, старательно запомнив слово в слово все, что там было написано, тщательно свернул его в трубочку и засунул обратно в альбом. К чему нам сентиментальная бумага в век информационных технологий?
Потом снова нашел фотографию отца в молодости и вынул ее из альбома. Подумал и вытащил цветную, где он был в белой рубашке. Разложил их на столе и сфотографировал телефоном. На дворе XXI век все-таки.
Едва я успел спрятать телефон, как вошла Анна.
— Ну что, ознакомился?
— Угу.
— Уяснил, что все завещано тебе?
— Стыдно читать чужие письма.
— Глупо их не читать.
— И что мы будем делать дальше? Хоть убей, а соображений, куда… Магистр (слово «папа» никак не укладывалось у меня в голове, после того как я увидел его лицо) запрятал завещание, у меня не прибавилось.