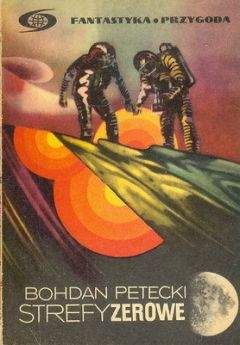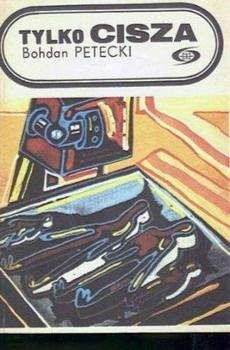Богдан Петецкий - Люди со звезды Фери
Прошло еще сколько-то секунд, прежде чем он смог говорить. Правда, сказал немного:
— Семь минут…
В тоне его голоса не было иронии. Ни раздражения.
— Зонд нужен? — отозвался динамик. Коротко и деловито. Сен перестал корчить из себя болтуна. Забеспокоился — в конце концов.
— Нет, — ответил я.
В зонде мы не нуждались. В поле зрения не было ничего, что могло бы привлечь внимание, желание рассмотреть поближе. Наклонная плита, темнеющие с высотой склоны, изредка отмеченные белыми прожилками, отдаленные массивы скал. Слева несколько карликовых дюн и широкая равнина, уходящая к нитке пляжа.
— Семь минут…
Он сидел неподвижно, высоко задрав голову. Руки тяжело лежали на коленях. Он, вне сомнения, даже не подозревал, что уже в третий раз повторяет про эти «семь минут» вслух.
— Восьмая кончается, — равнодушным тоном заметил я.
Он вздохнул, еще с секунду оставался в прежней позе, потом наклонился вперед и положил руку на пульт.
— Все относительно, — негромко пробормотал он, так, что я едва его расслышал. Забавно. Для кого-нибудь, кто, скажем, в клубе за чашечкой кофе мог ответить с деланным вниманием: «В самом деле? Где-то я уже это слышал…»
Бывают ситуации, в которых повторение очевидных истин позволяет до конца понять, что думает и чувствует другой человек.
Мы уже двигались.
— Тому, что все относительно, — заявил я немного погодя, — мы обязаны такими вот пейзажиками…
— И звездами, — сказал Гускин.
Я посмотрел на него и разочаровался. Он был серьезен. Такое выражение лица могло быть у Горцова, когда двести тридцать лет назад он размышлял над своей мысленной тетивой.
Он тоже начал с того, что все относительно. Веками человечество не могло выйти из заколдованного круга скорости света. Вся терминология: «досветовая», «околосветовая», и даже, как выражались самые храбрые: «сверхсветовая», убеждала многие поколения в мысли, что на этом кончаются возможности познания. Ведь от начала мира они зависят от скорости. От темпа обработки информации, передачи данных, скорости ракет.
«Мы напрасно, — заявил Горцов, — приравниваем путь наших кораблей к пути светового луча. Таким методом мы ничего не добьемся.»
После чего он повторил, что все относительно, и нарисовал лук, из какого мальчишки стреляют по мишеням. Собственно луком была линия света, а тетивой — путь ракеты. Ее он называл мысленной тетивой.
Все остальное — это вопрос чисел. Безграничных, как вселенная, но так же и качественно изменяющих взаимосвязь между этой вселенной и человеком. Вслед за математикой пошли галактические корабли и базы. Ну — и мы. Перенесшиеся сюда за какой-то месяц из системы Альфы Центавра, первой земной звездной станции.
О самом полете трудно что-либо сказать. Мы провели его в гибернаторах, в силовом поле, структурно воздействующем на белковые компоненты живых организмов. Перегрузки практически перестали существовать.
Все это в прошлом. Гускин может развлекаться рефлексиями на темы Эйнштейна и Горцова. Даже, если он занимается этим здесь. На дне этого колодца, стенки которого образуют ни на что не похожие облака. Только в таком случае обещанные «Технарем» «неожиданности» окажутся подлинными неожиданностями. Причем, задолго до того, как мы успеем нарадоваться мысли, что не смогли их предвидеть.
На востоке горы. О них мы знаем только одно: они заселены. Уже первая экспедиция передала сообщение о странных белых пирамидах, возведенных на каменных террасах. Фотонный фильм с орбиты подтвердил эти наблюдения. На более подробные не было времени. Непонятным в первую очередь было то, почему цивилизация держится вдали от океанов. По крайней мере, от этого океана. И ведь не где-нибудь, а именно здесь, в одной из этих котловин, окруженных пологими дюнами, опустилась «Анима».
Исследовательская группа. Ученые, направленные в систему Фери после завершения работы в Облаке Стрельца. Трое мужчин и две женщины.
Они высадились двадцатого апреля две тысячи восемьсот тридцать второго года. Передали сообщения о белых строениях в горах и о «листоподобных», как они их охарактеризовали, конструкциях, видимых на поверхности океана. Свыше двух часов поддерживали с базой нормальную связь. В восемнадцать сорок Може, кибернетик, исполняющий на «Аниме» функции оператора связи, сообщил об особенном явлении в прибрежной полосе океана. Вода словно бы отступила, обнажая дно. Подъехали поближе. Они сами оценивали видимость как превосходную. Остановились в неполных десяти метрах от берега…
Короткий, сухой треск, один-единственный скрежещущий звук, словно кто-то провел тупым ножом по стеклу. Все.
Именно потому мы опустились на солидном расстоянии от океана. Именно поэтому обрекли себя на прополаскивание желудка, которому равноценна езда на вездеходе по дюнам. Точнее — Гускин и я. Гускин, всегда серьезный, сказал бы даже: озабоченный, словно постоянно пытающийся что-то припомнить. Пилот-фотоник. Может быть, слишком деловитый на мой вкус. Ненамного. А может быть, и намного. Но я предпочитаю лучше это, чем начальственную разболтанность Сеннисона. И я был рад, что он отправил нас на разведку вдвоем, а сам занял наблюдательный пост в кабине «Идиомы».
Что касается меня, то, как уже упоминалось, зовут меня Жилли. Должность — пилот-кибернетик.
Приближался полдень. Если что и вытекало из переплетения лучей, пронзающих пространство под полыхающими облаками, так только то, что Солнце стоит в зените…
* * *Девять приглушенных, отрывистых звуков. Вечер. Через минуту я поднимусь, надену скафандр и отправлюсь на ежедневный обход регистрирующих постов.
Я выпрямился. Спинка кресла послушно потянулась за моей спиной.
Прокрутил запись.
«Кибернетический Жиль…» Мне бы следовало улыбнуться. Если бы мое лицо сохранило память об улыбке.
Мое? Чье лицо, значит?
Нет. Лицо мое. Это точно.
Я поднялся, отодвинул кресло и отключил приставку светового пера. Экран стал матовым.
Удалось ли мне в том, что я написал, передать пейзаж третьей планеты Фери, какой она была, когда мы остановились возле океана? Планеты желтых облаков, белых пирамид и похожих на листья городов под поверхностью воды?
Вопрос звучит серьезно. Как и большинство вопросов, которые остаются без ответа.
«Кибернетический Жиль…» Когда это было? Сто лет назад? Двести?
Здесь я уже одиннадцать месяцев. Располагаю всем, что мне может потребоваться. Синтезаторы, преобразователи, генераторы большой мощности, подручная аппаратура компьютеров. Мне выделено пространство, оборудованное с учетом запросов современного человека. Отсюда, из-под стеклянного купола, я контролирую все, что происходит на моей планете. А так же — на планете, вокруг которой моя планета вращается.
Я подошел к иллюминатору. Наступила тьма. Через минуту взойдет Четвертая. Серпик ее второго спутника уже показался на востоке, словно вырезанный из белой кости. Выше, над границей тьмы, еще сохранились плывущие золотые полоски.
Я повернулся и неторопливо направился в направлении смонтированного на противоположной стене большого панорамного экрана. Днем и ночью, вне зависимости от взаимного положения небесных тел, он передает мне сигналы, высылаемые со станции на поверхности Четвертой.
Я остановился и выбрал третью с краю клавишу на пульте связи. Изображение сделалось более четким.
Какое-то время я смотрел, не шевелясь. И ни о чем не думая.
Копии ведут себя нормально. Их постройки, наполовину открытые, отмечает ряд светящихся огоньков. Там тоже день подходит к концу. Высокий лес с мягкой, бархатистой листвой, подходящий под стены насыпи, кажется черным каменным монолитом.
Два силуэта. У выхода, в части, не прикрытой крышей. В слабом свете напоминают участников сафари на привале.
Я почувствовал нестерпимую резь в горле. Желудок попытался вывернуться наружу. Я попытался увлажнить губы языком, но мышцы рта оказались застывшими, напряженными.
Меня охватила непреодолимая ярость. Как всегда, напрасно перед каждым сеансом связи я повторял себе, что ничего такого не может произойти.
В какой степени источник этого раздражения кроется не там, на соседней планете, а во мне самом?
Неважно. По сути дела, ничто теперь не важно.
Через минуту возьмусь за ужин. Отдам должное еде, как они сейчас. Полный порядок. «С ними полный порядок, — произнес я негромко. — Ферма процветает.» Я сам себя обрек на это задание. Я повторяю это с тем большей настойчивостью, чем отчетливее звучит у меня в ушах сопутствующий ей фальшивый привкус, словно говорит это кто-то другой, некто, пропитанный ненавистью, достигающей предела нервной выдержки человека.
Я опять уперся взглядом в экран. На нем ничего не изменилось. Они по-прежнему сидели в кругу неяркого света, развалившись в легких, жестких креслах. Повернулись спинами к лесу, который подступал к самой ограде, увенчанной кольцами антенн. На мгновение мне почудилось, что я вот-вот уловлю в этой картине что-то знакомое. Что-то, почерпнутое из фильмов или документов определенного периода политической истории Земли. Эти антенны, напоминающие колючую проволоку…