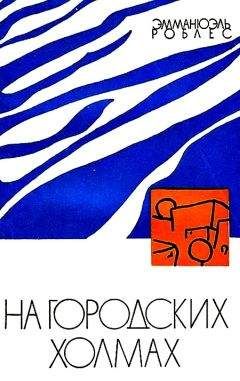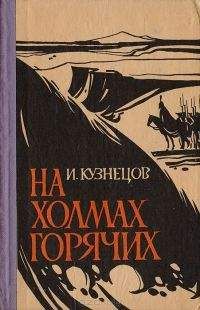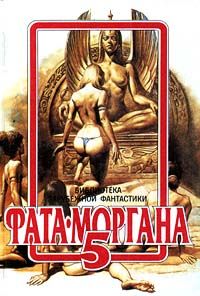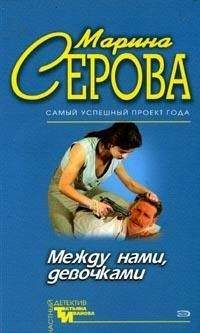Александр Житинский - На холмах Мисуно
Далее, за каналом, воздвигались темные коричневатые горы, очерненные линиями очень скупыми и закругленными. Никаких резких поворотов, пиков и впадин – во всем царила гармония, простота и неслышный ритм, с которым горы переходили одна в другую, постепенно увеличиваясь. Из-за гор вставала полная луна, промежуток между нею и вершинами гор увеличивался на глазах.
Мы остановились на горбатом мостике и стали смотреть в воду.
– Меня зовут Мацуо, – вдруг сказала моя знакомая и посмотрела на меня испытующе, словно проверяла, поверил я или нет. Имя мне понравилось, поэтому я охотно поверил ему.
Спустившись с мостика, я нашел на берегу канала плоский кэйдэй, похожий на отполированный морскими волнами камушек. Вероятно, его обронил здесь кто-то из рыбаков. Я кинул кэйдэй на воду и, стоя на берегу, наблюдая, как круги расходятся по воде, отражаются от берегов канала и образуют рябь. Лицо Мацуо, которая все еще стояла на мостике, поколебавшись в этой ряби, совсем исчезло, будто растворилось, а еще вернее – оно было унесено по частям мелкими волнами. Глаза ее разъехались в разные стороны, губы разбились о берег, а волосы перебегали с волны на волну, и непонятно было, где кончаются завитки волос и начинаются завихрения струй.
Я вспомнил, что мы с Мацуо жили много лет назад в одной японской деревне, но потом нас разлучили – кажется, это было в семнадцатом веке – а вспомнив это, я испугался, что у меня не хватит гравюр.
Гравюры действовали безотказно, но лишь на короткое время, как успокаивающие таблетки. Самым главным для меня теперь было, чтобы Мацуо тоже узнала меня и не принимала больше за гида или даже за тэкку, каковым я на самом деле не был.
Я стал расходовать картинки экономнее. Уже давно исчезли все мостики, кроме одного, на котором стояла Мацуо, уже по каналу пронеслась моторка с рыбаками, а потом прошел теплоход на подводных крыльях, огласивший воздух правильно заученными фразами экскурсовода, уже горы изменили очертания и стали прямоугольными, а в них зажглись окна, но я не спешил менять обстановку.
Мы пошли по улице, пытаясь найти какое-нибудь кафе, чтобы там посидеть после пейзажей, но везде стояли очереди. Тогда я все-таки разыскал городской пейзаж Эдо, кварталы театров Кабуки и гейш, и мы очутились в маленьком домике, напоминавшем карточный своей легкостью и теснотой, а там уселись на циновки.
Мацуо смотрела на меня несколько напряженно. Поймав мой взгляд, она улыбнулась и взяла меня за руку.
– Где мы? – спросила она.
Вместо ответа я прочитал ей старинные стихи:
«Мы там, где нас нет.
Вечером
Хорошо посидеть у огня».
И тут я увидел у нее в руках меню. Она листала его с разочарованием потому что большинство блюд, как всегда, были вычеркнуты. Сложив меню, они кинула его на циновку и спросила:
– Что ты будешь пить?
У меня закралась мысль, что все происходит несколько иначе, чем мне кажется. Я еще раз придирчиво осмотрел светлые стены домика, пощупал шершавые циновки и спросил:
– Тебе здесь нравится?
– Очень, – быстро ответила она, заглядывая мне в глаза.
– Закажи на свой вкус, – сказал я и, поднявшись, подошел к стене за ее спиной. Мацуо в это время объяснялась с гейшей по поводу заказа. Размахнувшись, я ударил кулаком по стене, и домик рассыпался в один миг, точно его и не было. Гейша ушла, а я сел рядом с Мацуо, как и прежде. Она снова посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я понял, что она не заметила крушения домика.
Обломки валялись тут и там, загромождая проходы. Официантка, переступая через затянутые золотым шелком деревянные планки, подошла к нам и поставила на циновки два коктейля. Мацуо взяла бокал и посмотрела на меня сквозь него. Теперь ее лицо перечеркивала белая полиэтиленовая трубочка, вставленная в коктейль, а под нижней губой уютно примостилась вишенка.
Мы выпили на останках разрушенного домика. Мимо проплывали японские пейзажи, и в каждом была какая-нибудь ущербинка: то луна висела криво, то посреди рисовых полей торчала телевизионная башня, то на дороге, запруженной деревянными повозками, появлялся автомобиль марки «Жигули» и начинал раздраженно сигналить, отчего владельцы повозок, теснились у обочины, переругиваясь с водителем и друг с другом. Но в целом это все же были японские гравюры.
– Смотри! – показал я на дорогу, где в этот момент происходил забавный церемониал: четыре гейши, обмахиваясь веерами, изображали нечто вроде танца вокруг ничем не примечательного старичка в шелковой рубахе с длинными рукавами и странного покроя трусах – это в самом деле были трусы, а не брюки или что-нибудь иное.
Мацуо и не подумала оглянуться. Она продолжала тянуть через соломинку коктейль, смотря на меня несколько печально. Я потребовал, чтобы она обернулась, и Мацуо нехотя посмотрела через плечо.
– Ну, и что? – сказала она.
– Что ты видишь? – спросил я. – Кто там на дороге? Говори!
– Пьяный солдат… Он очень смешной, – сказала она, улыбнувшись. Потом Мацуо снова посмотрела мне в глаза и добавила:
– Еще там четыре гейши. Правильно?
Мне стало жаль гравюр, израсходованных впустую. От книги осталась одна обложка, под которой сиротливо ждала своей очереди последняя картинка.
Мы шли к вокзалу молча. Кое-где еще попадались чудом сохранившиеся деревянные ступеньки или карликовые сосны, росшие посреди тротуара. Уже наступила ночь, теплый ветер весеннего месяца медзи нес по тротуару мельчайшую пыль, в которой перекатывались засохшие лепестки цветов вишни. Они были совсем легкими, как крылья бабочек… Вернее, крылья мертвых бабочек.
Досада подкрадывалась ко мне постепенно. Сначала она долго шла сзади, подкарауливая момент, а потом, когда мы миновали беседку, казавшуюся издали совершенно японской, а вблизи заплеванную окурками и украшенную изображением женского бюста, а также однообразными словами, написанными мелом и углем, досада овладела мною и привела в полное уныние.
– Каковы ваши впечатления? Что вы извлекли из поездки по нашей скучной провинции? – обратился я к моей знакомой, которую уже даже мысленно не мог назвать тем нежным и странным именем.
Она посмотрела на меня тревожно и тут же спрятала глаза.
– Боюсь, что мы ничего не увидели… – продолжал я, испытывая злость к себе, поскольку не смог проститься с женщиной, сохранив полное достоинство и самообладание. – И ничего не вспомнили, – закончил я значительно, как самодеятельный трагик, отчего у меня сделалось еще противнее на душе.
– А я и не забывала, – вдруг сказала она. – Чтобы вспомнить, надо забыть… Ну, не валяй дурака, я тебя очень прошу! Сейчас я опять уеду лет на двести, а ты так ничего и не поймешь.
– Но месяц медзи… Холмы Мисуно… – пробормотал я, действительно ничего не понимая.
– Книжку прислала тебя я, – сказала Мацуо. – Ты ведь любишь обставлять все в таком духе… – она изобразила пальцами в воздухе трепещущие птичьи крылышки.
– Тебе было плохо? – спросил я.
– Хорошо… Только, понимаешь, ты ведь опять убежал. Ты всегда убегаешь. А требуется вот что…
Она вынула книгу у меня из под мышки и распахнула обложку. Одна единственная картинка, которая оставалась на месте, изображала глубокую, с синеватым отливом, белую тишину. Мацуо оторвала гравюру, секунду полюбовалась ею и разжала пальцы. На холмах Мисуно наступила тишина, в которой цвета и формы быстро растворялись, теряли очертания, таяли и пропадали. Через минуту ничего вокруг не осталось и это не преувеличение. Все было белым-бело, – непонятно, где мы шли, по какой тверди ступали – точно в облаках. Крылышки у нас не отросли – напротив, одежды наши тоже улетучились, как дым, и мы с Мацуо остались одни на всем белом, и вправду, совершенно белом свете.
Она была очень хороша. Я не видел ее с семнадцатого века. За это время сменилось несколько общественно-политических формаций, ряд государств прекратили существование и многие выдающиеся люди умерли. Но Мацуо совершенно не изменилась. Я наконец разглядел ее как следует. На спине у нее оказалась длинная выгнутая ложбинка, по которой хотелось провести кончиком пальца сверху донизу. Грудь у Мацуо была маленькая, как, вероятно, у всех японок, но на грудь она не позволила мне смотреть, прикрыв ее длинными волосами.
Так продолжалось какое-то время – может быть, час. Вряд ли больше, потому что до отправления поезда оставался час с небольшим, но та, последняя, гравюра обладала еще одним необъяснимым для графики свойством: она смогла и время растворить в этой белой тишине.
Нет, это не было похоже на больницу, но и на цветение вишни на холмах Мисуно это тоже мало было похоже. Пожалуй, точнее всего ощущение падения с елки в матовом стеклянном шарике. Есть такие елочные игрушки. Мне до сих пор представляется этот шарик, пронизанный светом и падающий с хвойной ветки. Внутри шарика бело, только тени разных цветов переливаются в нем, и кроме того, там сохраняется невесомость.