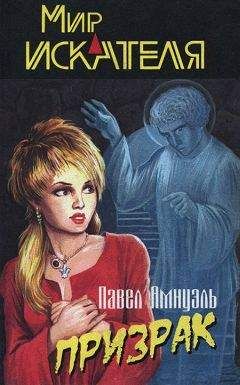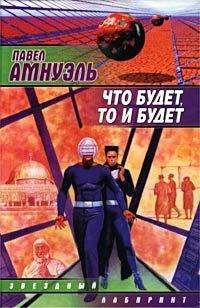Павел Амнуэль - Клоны
– Бредьихин… – повторила Лайма. – Это имя?
Русский раскатисто рассмеялся, откинул волосы легким движением, и Лайма подумала с удивлением, что он не пожилой, как ей показалось, лет ему не больше пятидесяти.
– Это фамилия, – объяснил Бредихин. – Зовут меня Евгений. А это, – он сделал широкий жест, – наши сотрудники: Виктор Кукаркин, замечательный программист и приборист, и Маргарита Масевич, прекрасный оптик. С Леонидом Зельмановым, великолепным теоретиком, вы знакомы.
«Вы, конечно, тоже замечательный, прекрасный и великолепный», – хотела съязвить Лайма, но промолчала. Познакомились, и ладно. Ей не хотелось оставаться здесь больше, чем на время, необходимое для решения проблемы, ради которой ее сюда привезли. Нужно что-то перевести?
Спросила она вслух или только подумала? Бредихин взял Лайму под руку, подвел к одному из столов, усадил в кресло и сел рядом на пластиковый стул:
– У нас есть видеозапись, но нет звука. Человек что-то говорит, и мы не можем понять – что именно. Возможно, по-английски. Мы не настолько владеем языком, чтобы читать по губам.
Вот оно что. Лайма научилась читать по губам, когда ей пришлось расшифровывать старую пленку, фильм, найденный в архиве Борнхауза, известного в Гонолулу мецената и коллекционера. Собирал он все, что, по его мнению, могло представить историческую ценность – не для человечества, а исключительно для истории островов. Первые марки, выпущенные в 1874 году, картины местных художников, ни для одного музея не представлявшие интереса, фотографии американских фрегатов, стоявших у берегов Большого острова в годы Второй мировой войны… В общем, все, в том числе ленты, снятые местными любителями еще в те годы, когда кинематограф был великим немым. Лайма окончила университет и собирала материал для диссертации по языковым особенностям коренного населения Гавайев, когда ее пригласили в дом (скорее дворец) Борнхауза. Старик был плох и не вставал с постели, но ум имел ясный, а голос громкий, хотя и по-стариковски хриплый. «Вас рекомендовал декан Форман, – объявил Борнхауз. – Мне нужно озвучить ленту. Это государственный прием в доме губернатора, тысяча девятьсот тринадцатый год. Очень интересно, о чем они говорили, но звук в те годы еще не записывали». «Я не умею читать по губам», – растерялась Лайма. «Ничего, – улыбнулся Борнхауз. – В отличие от меня, вы молоды. Для вас это прекрасная возможность научиться и хорошо заработать, что, как я думаю, немаловажно». Пожалуй. Она научилась – на это ушло восемь месяцев, но Лайма не жалела, было очень интересно не только учиться новому для нее умению, но и слушать рассказы Борнхауза о его долгой и чрезвычайно насыщенной жизни. Он сидел рядом в инвалидной коляске и говорил, говорил… пока не засыпал посреди фразы, а несколько минут спустя неожиданно просыпался и, что ее всегда удивляло, продолжал рассказ с того места, на котором его застал старческий сон.
Так случилось, что умер Борнхауз в день, когда Лайма закончила работу, представила распечатку разговоров (совсем, по ее мнению, не интересных) и получила свои деньги – сумму, какую ей не приходилось прежде видеть ни в реальности, ни на чеке.
– Вообще-то, – говорил тем временем Бредихин, – изображение не очень качественное, но лучшего получить, к сожалению, не удалось.
– Это старый фильм? – спросила Лайма. Она подумала о Борнхаузе и о том, как неожиданно прошлое соединяется с настоящим.
– Не думаю, – почему-то смутился Бредихин, и у Лаймы возникло безотчетное ощущение приближавшейся опасности. Вообще-то она могла отказаться – читать по губам она умела, но в ее служебные обязанности это не входило. Перевод астрономической литературы с любого и на любой из известных ей шести языков – пожалуйста, она обязана была предоставлять такие услуги любому сотруднику обсерватории Кека. Работой ее не заваливали, астрофизики, приезжавшие в Ваймеа, знали английский, и чтение профессиональных журналов не было для них проблемой. Переводить приходилось чаще всего с японского и – гораздо реже – с французского.
– Мы понимаем, – сказал Бредихин, угадав, видимо, по недовольному выражению ее лица, о чем подумала Лайма, – наша просьба выходит за рамки ваших служебных обязанностей, но, видите ли, это… вы поймете… в общем, относится к астрофизике… некоторым образом.
«Похоже, он запутался», – подумала Лайма и не стала приходить на помощь. Она была обижена на Леонида, усевшегося во вращающееся кресло перед соседним компьютером и не смотревшего в ее сторону – мол, я свою задачу выполнил, договаривайтесь теперь с начальником.
– Я могу посмотреть, конечно, – сказала Лайма и добавила: – Раз уж приехала.
Намек был понят, и Бредихин заговорил о дополнительной оплате: «Назовите цену, это не проблема. При вашей квалификации работа не отнимет много времени, запись не длинная, минут пять, только качество не очень, и могут возникнуть затруднения»…
– Покажите, – Лайма постаралась отрешиться от предчувствия и вообще от всего – ей трудно было в последние недели приводить себя в состояние, необходимое для работы. Ничего не видеть, только губы человека, только его мимику. Мимика помогала понять смысл произносимого и через смысл – находить точное слово. Бредихин что-то говорил, но звуки уже протекали мимо ее сознания, Лайма ощущала мешавшие ей взгляды и непроизвольно повела плечами, сбрасывая чужое внимание и влияние.
Картинка, возникшая на экране монитора, выглядела черно-белым кадром из фантастического фильма: на темном фоне довольно быстро вращалась планета. Не Земля, больше похоже на Марс с полярными шапками. Деталей Лайма рассмотреть не успела – изображение сменилось, появилась комната, низкий потолок, вдоль голых стен странные темные полосы, будто гигантские водоросли, на заднем плане то ли открытая дверь, похожая на переходной отсек Международной космической станции, то ли – если представить, что смотришь вниз, – глубокий колодец, где ничего нельзя разглядеть.
В поле зрения возник молодой мужчина в светлой рубашке с длинными рукавами и стоячим воротником, широкоскулый, темный, черноволосый, коротко стриженный…
– Господи… – пробормотала Лайма.
И стало темно.
* * *
Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней Леонида.
– Вам, наверно, действительно противопоказана высота…
– Том, – сказала Лайма.
– Что?
– Том, – повторила она. – Вы должны были меня предупредить. Почему вы сразу не сказали, что у вас есть запись Тома?
– Простите? – Лайма узнала голос, Бредихин подошел, участливо посмотрел ей в глаза.
– Запись Тома. Вы должны были сказать.
– Том?
«Почему он переспрашивает? Он же все понимает, его взгляд говорит об этом».
– Когда вы снимали? – спросила она. – Где? Странная комната.
– Человек на экране… – понял, наконец, Бредихин. – Он похож на вашего знакомого?
– Это Том, – твердо сказала Лайма. – Том Калоха. Нечестно с вашей стороны…
– Мисс Тинсли, – в голосе русского появились металлические нотки, – вы, безусловно, ошибаетесь. Том Калоха, вы сказали? Я слышал об этой трагедии.
Леонид что-то тихо сказал, и Бредихин кивнул:
– Я понял. Сходство, конечно, да…
– Покажите, – потребовала Лайма. – Где бы вы это ни снимали, вы хотели мне это показать. Я хочу видеть, что говорит Том.
Леонид и Бредихин незаметно, как им, видимо, казалось, переглянулись.
На экране опять появилась планета, похожая и не похожая на Марс, а потом странная комната, справа вплыл Том, и Лайма рассмотрела то, чего не поняла в первый раз: по-видимому, комната находилась в невесомости, и Тому приходилось обеими руками держаться за небольшие поручни, чтобы оставаться в вертикальном положении.
Том много раз говорил, что в юные годы хотел стать астронавтом, но понимал, что это невозможно – у него не было образования, он не служил в авиации, с его профессией водителя в космосе делать было нечего. Может, это аттракцион? В Гонолулу много аттракционов. Но почему Том не рассказывал ей? И как запись оказалась у русских астрофизиков?
Том посмотрел Лайме в глаза, отчего у нее перехватило дыхание, и сказал ясно и четко, будто говорил вслух, а не шевелил губами, рождая звуки лишь в памяти Лаймы, запомнившей на всю жизнь его гулкий, будто из колодца, и немного хрипловатый голос:
– Мы понимаем, что помощи не дождемся. Кэп и Кабаяси, – Лайма увидела имена, но не была уверена, что поняла верно, – готовят корабль к консервации. Жизненное пространство схлопывается с расчетной скоростью, нам осталось…
Том оглянулся, и у Лаймы выступили на глазах слезы – она узнала стрижку, Том любил подбритый затылок, так было принято стричь голову у коренных гавайцев. Несколько раз Лайма по просьбе Тома подбривала ему затылок, вот точно так…
В темном круглом проеме возникло движение, и в комнату вплыл – как в репортажах с Международной космической станции – худой, будто шланг, афроамериканец, а может, коренной житель Африки, не написано же на нем, является ли он гражданином Соединенных Штатов. Странное телосложение для черного, Лайма встречала в жизни коренастых или высоких, но плотных – в общем, не таких.