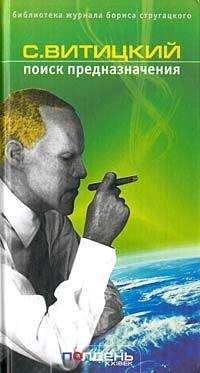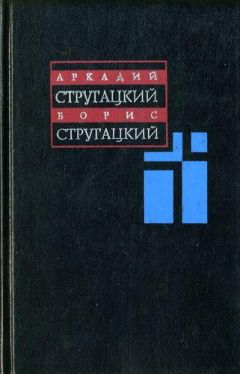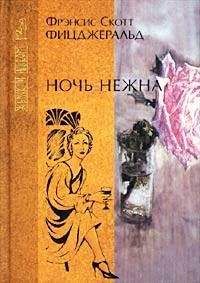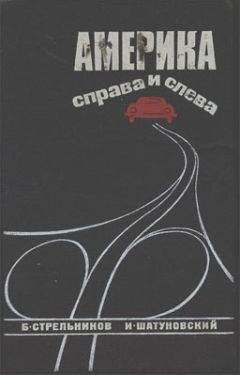Борис Стругацкий - Двадцать седьмая теорема этики
«Взвешен, и найден легким».
Правда, были еще ОЗАРЕНИЯ. Или ЗАТМЕНИЯ. Это уж — как угодно. Размышлять на эту тему было, скорее, неприятно, но однажды он, все-таки, заставил себя это свое свойство проанализировать. Анализировать оказалось так же неприятно, как вспоминать какой-нибудь свой давний провал, или срам, или срамной провал. Какую-нибудь ослиную неуклюжесть при амурном ухаживании. Или позорный ляп на экзамене. Или постыдную ретираду при виде уголовных рож на ближних подступах… Хотя на самом деле ничего такого уж позорного в озарениях-затмениях не было. Скорее уж, наоборот. Но все-таки это было что-то вроде припадка, о котором потом ничего толком не можешь вспомнить, кроме ощущения бешенства и дикой неконтролируемой ненависти…
Впервые это, кажется, случилось еще в школьные времена, либо в самом начале студенческих, когда Виконт со своим идиотским высокомерием зацепил за живое какого-то чудовищного жлоба, пахана, уркагана, и тот, притиснув маленького кучерявого сильно побледневшего Виконта в угол (дело происходило в трамвае), принялся, урча невнятные угрозы, бить его по глазам кожаной перчаткой, причем второй громила, ничуть не менее жуткий, стоял тут же рядом и равнодушно смотрел в раскрытую дверь на проносящиеся пейзажи. Публики в трамвае было полно, но никто и пикнуть не посмел, все старательно делали вид, что ничего не происходит. Это длилось секунд десять, Станислав оцепенело смотрел как ходит по бледному Виконтову лицу коричневая облупленная перчатка, и тут затмение наступило… или, наоборот, озарение, ибо он вдруг ясно понял, что надлежит делать… Виконт рассказал потом, что выглядело это жутковато. Станислав издал тоненький, на самой грани слышимости, визг, прыгнул сверху, на спину, на плечи, на голову пахану, как-то страшно ловко, по-звериному, запрокинул ему нестриженую башку и несколько раз, не переставая визжать, укусил его в лицо.
Весь трамвай мгновенно ополоумел от ужаса. И пахан, естественно, ополоумел от ужаса тоже — ополоумеешь тут, когда посреди шума городского, в трамвае, а не в джунглях каких-нибудь, на тебя наскакивают со спины шестьдесят пять килограммов мускулистого веса, с воем и с визгом хуже всякого звериного, и кусают за лицо. Он судорожным усилием стряхнул с себя Станислава, словно это было какое-то ядовитое животное, и бросился вон из вагона прямо на ходу (благо в те времена автоматических дверей в трамваях не водилось). Они оба — жлобы, паханы, уркаганы — сиганули без памяти прямо в кусты, которые тут росли вдоль трамвайных путей (дело происходило на улице Горького, недалеко от кинотеатра «Великан»), а Станислав остался стоять, напряженно скрючив пальцы-когти, напружинившись, весь белый с красными пятнами, и зубы у него были оскалены как у взбесившегося пса.
Им пришлось выйти на ближайшей же остановке, чтобы не пугать и дальше трамвайный народ… В памяти у Станислава осталось: сначала — ощущение ОЗАРЕНИЯ, неуправляемое бешенство, чувство неописуемой свободы и абсолютной уверенности в своей правоте, а потом — сразу, почти без перехода — обеспокоенные глаза Виконта и его голос: «Эй, ты что это? Ты меня слышишь или нет?..»
Таких вспышек на протяжении последних пятнадцати лет состоялось несколько. Вспоминать их было неприятно, а зачастую и стыдно. Тем паче — рассказывать о них. И дело было не только в том, что никому неохота признаваться в склонности к припадкам. Тут был и еще один нюанс.
Например, подобная вспышка спасла их с Лариской, когда нарвались они, гуляючи осенней ночью по набережной, на стаю мелких, но мерзких пацанов — штук пятнадцать шакалов окружили их, подростки, гнилозубые, грязные, исходящие злобой и трусливой похотью, Станислава прижали к парапету, а Лариску принялись хватать за разные места, ржали, гыгыкали, рвали кофточку, лезли под юбку… Станислав взорвался. Он сделался так ужасен, что шакалье брызнуло в стороны без памяти и с воем, а Лариска перепугалась (по ее собственному признанию) чуть не до обморока, — он показался ей страшнее любой банды, он был как вурдалак в охоте…
Нюанс же состоял вот в чем: опомнившись, он обнаружил, что во время ОЗАРЕНИЯ обмочился и даже немножко обгадился. Не от страха, конечно же, нет — никакого страха не было и в помине, только бешенство и ясная ненависть. Но видимо, что-то происходило с организмом во время таких вот взрывов — какая-то судорога… или, наоборот, некое расслабление. (Точно так же, как, говорят, у повешенных в предпоследние секунды их жизни происходит непроизвольное и совершенно неуместное семяизвержение).
Он попытался проанализировать все эти случаи, они были разные, общее было в них лишь то, что он за кого-то стремился каждый раз заступиться, защищал кого-то, справедливость отстаивал: то с хулиганьем воевал; то с дурой референтшей, затеявшей графологическую экспертизу в масштабах всего института — на предмет выяснения, кто это посмел написать поперек ее статьи в стенгазете: «НЕПРАВДА!» («А вы знаете, что такое ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ?!» — бешено орал на нее Станислав под испуганными взглядами членов редколлегии); то с каким-то хамом на бензоколонке, нагло пролезшем без очереди (как потом выяснилось, к стыду и позору Станислава, никакой это был и не хам вовсе и пролез он на совершенно законных основаниях — у него оказался какой-то там специальный талон, пропуск, жетон, в общем — документ)…
Каждый раз после ОЗАРЕНИЯ пересыхала глотка, язык становился большим и шершавым, и побаливала голова, и стыд мучил, и как-то неправильно — в части интимных своих отправлений — функционировал организм. Что-то происходило с ним во время этих вспышек. Какой-то перебой. А точнее говоря, — сбой. Станислав наводил осторожные справки у знакомых — ни с кем из них ничего подобного никогда не случалось. Тут он был, похоже, опять уникален. Ну и что? Никаким предназначением здесь и не пахло. Пахло, скорее уж, патологией и нервной клиникой. Это было лишь еще одно доказательство его необычности, особливости и даже уникальности, но — ничего более.
Иногда он просыпался ночью от вспышки счастья, сердце колотилось восторженно, лицо распирало радостной улыбкой: он только что понял, наконец, ВСЕ! Обрел знание. Проникся — до самых последних закоулков… Предназначение возвышалось рядом с постелью, как прекрасный призрак. Оно было ясным, величественным и поражающе очевидным. На грани сна и яви, как эхо мгновенного обретения, счастливым воздушным шариком моталась одинокая радостная мысль: «Господи, да где же раньше глаза мои были, до чего же все это очевидно, Господи!..»
И все тут же рушилось. Лунные квадраты мертво лежали на паркете. Потрескивали рассыхающиеся обои. Со стены строго смотрела мама… Лариска рядом дрыхла — тихо и безмятежно. Он вставал, шел в маленькую комнатку и там выкуривал сигарету, не включая света. Ему казалось, что в темноте, еще может быть, получится: сформулировать, вспомнить, вернуть, сделать явным. Это было мучительно. Наверное, на том берегу Стикса точно так же мучаются ТЕНИ, пытаясь и не умея вспомнить свое прошлое…
Виконт безжалостно повторял одно и то же: «Ишши!» Или, иногда: «Жди». С некоторых пор ему явно не нравилось более рассуждать на эти темы и выслушивать жалобы Станислава. Может быть, он догадывался? Догадывался, и не хотел говорить. Почему? Боялся сглазить? Он бывал иногда суеверен, причем сам себе придумывал приметы, например: нельзя мыться перед экзаменом и вообще накануне важного и решающего события. Нельзя смотреть на Луну через левое плечо. Нельзя наступать на трещины в асфальте. Нельзя, даже мысленно, напевать песенку «Моряк забудь про небеса…» И ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя идти из дому на работу иначе, как по Клинической улице. В свое время он начитался Леви-Стросса и придавал приметам значение особенное и чрезвычайное. «Суеверие делает сильным». Дурная примета — настораживает, хорошая — придает бодрости. Мир сложнее любого нашего представления о нем, и поэтому одного лишь разума — мало; чтобы выжить, приходится изыскивать дополнительные резервы и заключать странные союзы… Они с Жекой Малаховым могли обсуждать эту идею часами — ясный, прямой, бесстрашный, исполненный веселого яду Жека, и прищуренный, окутанный дымом трубки, ускользающий от понимания и как бы всегда в тени, непостижимый Виконт…
Ни с кем, кроме Виконта, говорить о Руке Рока было немыслимо. Однако, можно ведь было поговорить о Предназначении вообще.
Семену Мирлину это оказалось неинтересно.
Исполненный яду Жека посоветовал обратиться к философии.
(Жека был белокудрявый, румяный, с лазоревыми васильковыми — чудными! — глазами, от которых все попавшие под ноги особи женского полу приходили в остолбенение. Он знал об этом своем свойстве, и его от этого тошнило. Сама мысль об адюльтере вызывала у него рвотные позывы. Он весь и всегда был чистый, ясный, красивый, блестящий, словно хрустальный бокал. Ненавидел ложь. Любую. С трудом и с большими оговорками признавал ложь во спасение — называл ее нравственным наркотиком. Татьяну свою любил до неприличия. Насмешки по этому поводу — терпеливо сносил, хотя был вовсе не толстовец, умел и отбиваться, и при необходимости — бить. Он был — пурист. «ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНОМ! — произносил он, исполняясь яду. — Какой титан ликбеза это придумал? ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАДИОНОМ имени Сергея Мироновича Кирова… ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВСКИМ ПРОСПЕКТОМ…» Виконт был уверен, что СНОБ — это светский лев, элита, высокомерный аристократ. Жека разубеждал его в этом мнении. Сема Мирлин полагал, что ДОВЛЕТЬ — значит оказывать давление, а Станислав был искренне уверен, что пурист — личность, страдающая мочеполовыми болезнями… «Ну, пурген же! — втолковывал он. — Ну, мочегонное же!..» Жека всех терпеливо, а иногда и ядовито поправлял. Раздраженный этими грамматико-лингвистическими поучениями Виконт повадилася отвечать ему на его замечания классической формулой: «Перед каким словом в вопросительном предложении МУЖИКИ, КТО КРАЙНИЙ ЗА ПИВОМ? надлежит ставить неопределенный артикль БЛЯ?» Пуризм вообще утомителен, и Жекин пуризм тоже иногда утомлял. Впрочем, Жека, как правило, без труда улавливал в собеседнике такого рода утомление и немедленно менял манеру — он был и чуток, и тонок. Работал он, разумеется, в «ящике» и занимался сверхчистыми материалами. Что характерно.)