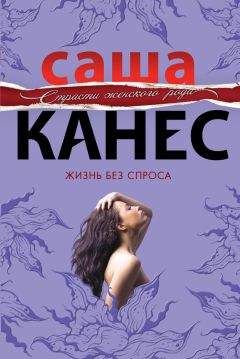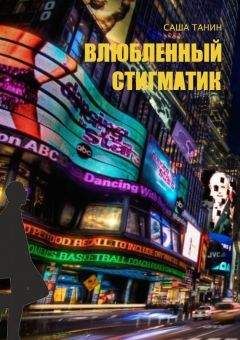Наталья Лебедева - Театр Черепаховой Кошки
Гости разошлись в десять, Вадим пошел провожать Яну домой. Они шли бесконечно долго, потому что Вадим все время останавливался, чтобы дотронуться до нее или поцеловать.
На дне рождения, усевшись за стол и глотнув шампанского, он вдруг расхрабрился и положил руку Яне на колено. Положил и скосил глаз, готовый тут же убрать ладонь, если ей не понравится, — и даже уверенный, что она возмутится. Но Яна молчала. Она только немного наклонилась вперед и оперлась о стол локтями, будто скрывая Вадикову ладонь от посторонних глаз.
Он касался ее весь вечер.
Более всего Вадика волновали не сами прикосновения, а то, как менялись Янины глаза. Взгляд у нее становился туманным, а зрачок — большим и ярким. И еще губы чуть вздрагивали, словно она все время хотела что-то сказать и даже говорила. Это было не слышно, как будто Яна была за толстым стеклом: нездешняя, запредельная, таинственная.
— Я тебя люблю, — шепнул он.
— Я тоже тебя люблю.
Вадим обнимал ее всю дорогу до дома и держал ее замерзшую руку в своей замерзшей руке.
Когда приблизился Янин подъезд, и Янина дверь блеснула холодным глазком, Вадим обнял ее сзади, прижал к себе и сказал:
— Не отпущу.
Они пошли по площадке странным животным с четырьмя близко поставленными ногами и пышными боками из ноябрьской теплой одежды. Яна низко наклоняла голову, будто стараясь вырваться, но на самом деле лишь сильнее прижималась к нему спиной и заставляла крепче сжимать руки у себя на животе.
Потом она развернулась и сказала Вадиму прямо в лицо:
— Сейчас папа заволнуется, что меня долго нет, посмотрит в глазок, и тогда…
— И что тогда?
— Тогда ты ни за что не получишь по истории выше двойки.
…Историк смотрел в глазок и видел, как Вадим целует его дочь. Он тяжело дышал, изредка сглатывал, облизывал пересохшие губы кончиком языка и напряженно вслушивался в тишину позади: как бы из комнаты не вышла жена.
Жена отравляла ему жизнь в последние месяцы. Она уже давно стала некрасивой и толстой. Историк видел, как она каждое утро вертится перед зеркалом, надевая пиджак, как застегивает пуговицы и как от этого на животе у нее образуются глубокие складки, словно на брюхе у гусеницы.
У них давно не было никаких отношений — это произошло само собой, и историк считал такое положение дел естественным, — но весной она вдруг попыталась предложить ему себя: обнимала, слюнявила ухо, шептала и всхлипывала. Историк хотел просто уйти, но жена цеплялась, и тогда он немного толкнул ее — она даже не упала. Не упала, но обиделась и теперь отравляла ему жизнь. Ворчала, шпыняла, загружала бессмысленной домашней работой, все время следила за тем, что он делает, и отпускала язвительные замечания по любому поводу.
Историк боялся, что она выйдет сейчас в прихожую взглянуть, что происходит, и от двери придется отойти. Но глядеть в глазок было жизненно необходимо, потому что в груди у историка рождались чувства, которых он не испытывал с молодости: первый поцелуй, первое прикосновение. Это был настоящий райский подарок: в самых смелых мечтах он не смел и предположить, что все это можно пережить еще раз.
Ухо болело: пятнадцать минут назад он вырвал с корнем выросший на его верхушке седой жесткий волос. Теперь пульсирующая жгучая точка мешала сосредоточиться и слушать.
А сосредоточиться было на чем: на себе, на Яне, на Полине, на Свете — той, которая была в его юности.
Яна была похожа на Свету, а историк снова — как и тогда — подглядывал. И рослый красивый парень так же обнимал Яну-Свету, — и его рука скользила по всему ее телу, задерживаясь на бедрах, сжимая их, прижимая к себе, отпуская и прижимая снова.
Историка трясло. Ему было не двенадцать лет, ему мало было смотреть. Ему самому хотелось быть таким парнем, и он — черт возьми! — имел на это право, потому что время уходило, песок с легким шуршанием пересыпался в нижнюю колбу… А возможно, это шумело в ушах от напряжения, потому что надо было все время слушать, не идет ли жена.
И с Яной было нельзя. Он и не хотел, и не думал о ней в этом смысле. В конце концов, историк точно знал про себя, что он не больной и не извращенец.
Сердце заколотилось слишком сильно. Историк понял, что почти не может дышать, хватанул ртом воздух, поперхнулся слюной и кисловато отрыгнул.
Жена загремела кастрюлями, он отпрянул от двери и сел на стул возле телефона, чтобы успокоиться.
С Яной было нельзя — тут и сомнений быть не могло. Ему просто хотелось переживать то же, что и она. Успеть ухватить еще силы, страсти, настоящего возбуждения. И это можно было пережить с Полиной.
Историк знал, что ей нет еще восемнадцати, но был уверен, что она уже не девушка. Да, она смущалась, когда слушала его рассуждения о де Саде и Изабелле, но это смущение могло быть вызвано тем, что он — учитель, а она — ученица. Вполне могло быть. Ведь Полина казалась такой развитой, и взгляд у нее порой бывал задиристым и наглым, словно вызывающим.
Историк был готов доказать ей: между ними не существует преград и барьеров.
3Если бы новый выпуск «Лучшего видео» снова был оборван, Виктор смог бы убедить себя, что все к лучшему. Ни начала, ни конца — только трагическая середина, как в самый первый раз. Если бы не было ведущей с ее подводками и комментариями, можно было бы надеяться, что для девушки, занявшей третье место, все закончится хорошо.
Но ведущая не оставила такого шанса.
Ее нога, как всегда, опиралась на нижнюю перекладину барного табурета: ярко-красные ногти, белые ремешки босоножки, высокая прозрачная платформа.
Взяв крупный план, камера пошла по ведущей панорамой снизу вверх.
Когда в кадре появился край юбки, девица опустила руку и повела по бедру остро отточенными ногтями, так что на коже появлялись и тут же исчезали бледные бороздки.
Камера следовала за рукой, и Виктор думал, что все это пошло, но что, с другой стороны, он взрослый человек и имеет право наслаждаться пошлым и безвкусным, особенно когда никто этого не видит.
Рука скользнула по груди, коснулась губ.
— Наслаждайся, — шепнула ведущая. — Ты имеешь полное право.
Другой рукой она поднесла ко рту кубик прозрачного льда.
— Мы живем так мало, — девица шептала, ее губы касались тающей, слегка голубоватой грани, и на губах оставались крупные капли ледяной воды. — Мы имеем право насладиться. Все остальное неважно: ведь нам так мало осталось. И Вероника уже знает… Будет глупо, если она станет плакать, верно, Вероника? И мы смотрим первый из трех финальных сюжетов.
Сюжет был длинным. Камеры смотрели на Веронику со всех сторон, подробно и обстоятельно показывали каждый ее шаг.
Виктор попробовал имя на вкус: «Вероника, Вероника». В нем было что-то сериальное, немного переслащенное, приторное. И язык неприятно цеплялся за «р» в середине. Но вообще, оказалось приятно знать имя хоть одного из участников финала, и Виктор удивился, почему раньше ему не было интересно, как их зовут?
На экране было сумрачно и пасмурно. Вечерело, тучи доедали остатки дневного света, как огромные наглые коты. Они довольно перебирали короткими лапами, и пышная шерсть на их брюхах все время меняла очертания. Люди шли или выгнув спины, или сильно наклонившись вперед: дул такой сильный ветер, что приходилось сопротивляться ему изо всех сил.
Вероника смешно бежала: быстро и почти вприпрыжку. Она оделась не по погоде, и это было очень на нее похоже. Маленькую трикотажную шапочку она старательно натягивала поглубже, но та уже через несколько секунд взбиралась вверх и открывала покрасневшие уши. Пальто у Вероники было тонким и коротким, из-под него торчали две тощие ножки в коротких осенних ботинках. Ремень дамской сумочки, плохенькой и довольно безвкусной, то и дело соскальзывал с Вероникиного плеча.
Так она и шла, борясь с ветром, с шапкой и с сумочкой, и Виктор поймал себя на мысли, что переживает за нее. В конце концов, Веронике было лет двадцать, и она годилась ему в дочери.
В памяти у Виктора мелькнуло что-то важное, связанное со словом «дочь», но он отмахнулся, оставил мысль на потом, потому что Вероника шла, и стало уже невмоготу смотреть на нее и думать: когда же и чем все это кончится.
Ветер налетел снова, и этот порыв был сильнее предыдущего. Свет фонарей мигнул, жалобно запели провода над Вероникиной головой. Она подняла глаза. Ветер рванул еще раз, словно желая вытрясти из проводов более отчетливый и ясный звук, и яркий сноп искр взвился в воздух. Это было похоже на растрепанную комету из детской книжки.
Вероника вздрогнула и шарахнулась в сторону. Ветер унес искры, и провод теперь только слегка вздрагивал. Девушка остановилась в некотором отдалении от него и, прикрытая козырьком книжного магазина, с опаской поглядывала вверх.
Виктор наклонился к экрану. Он смотрел так напряженно, что заболели глаза. Пришлось залезть под очки большим и указательным пальцами и сжать переносицу, чтобы помочь себе сконцентрироваться.