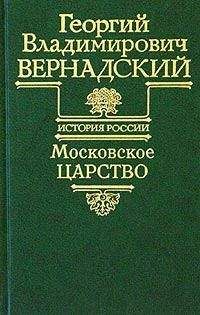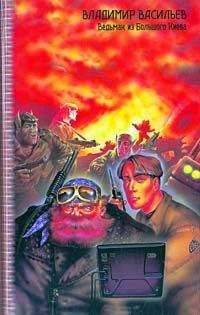Виталий Амутных - ...ское царство
Знакомая мне комната, казавшаяся всегда просторной, теперь будто вдвое сжалась от собравшегося здесь люда. Впрочем, уже второй взгляд изъяснил, что людей в комнате, может, и не так много, — полдюжины, — только малогабаритное жилье, видать, не приспособлено и для такого числа гостей.
Центром композиции был рыжий парень, с очевидными чертами вырождения в конопатом лице и хлипком теле, не так давно, по всей видимости, отпраздновавший свои двадцать пять. Он стоял, опершись тощим седалищем о край стола, на котором обретались две открытые, но не початые, бутылки кагора, фрукты, тарелки с закусками, и почти выкрикивал жаркие слова:
— …вот потому-то мы и оказались в такой заднице! Нужно было строго следовать по пути реформ.
Рядом с ним, на стуле, помещалась пресимпатичная девица с обведенной черным карандашом томностью в светлых глазах, возможно, его возраста. Девица временами гладила его по худенькой ручке, чтобы маленько охолодить, а заговаривая, всякий раз тянула его сторону:
— Но ведь правда! Все цивилизованные страны так живут. И Европа, и Америка…
Им парировали в основном двое мужчин лет по сорока, развалившиеся в креслах, в углу:
— Мы не можем согласиться с политикой нынешнего правительства, — говорил тот, что помоложе. — Ни я, ни Илья Аркадьевич, как председатель нашего Народно-патриотического Русского Союза, — он кивнул в сторону своего соседа, со значением разглядывавшего телефонный справочник, — и ни один из представителей нашего Союза с этим не согласится. Мы понесем идею русского фашизма в Америку, в Африку, мы дойдем до берегов Индийского океана…
Надо сказать, что оба представителя Русского Союза имели какую-то невнятную, но вовсе не русскую наружность, и поначалу как-то странно было слышать из их уст этот несусветный бред.
Еще один мужичок, немолодой коренастый, в великолепном твидовом костюме, с лицом красным и широким, украшенным седеющими усами, пытался накормить серого британского кота, похожего на плюшевую игрушку, колбасой, взятой со стола. Кот не ел.
А вдоль окна, не смотря на тесноту помещения, прохаживалась, — два шага туда, два шага назад, — сочная, с наливными формами женщина; прохаживалась и курила длинную розовую сигарету.
Первое слово Святослава, перекрывающее общие приветствия, было именно к ней.
— Лиза, я же просил не курить здесь. Неужели тяжело до кухни дойти. И что это у тебя во рту такое… цветное…
— Ой, Славочка, я же не знала, когда ты придешь, — всколыхнула невероятной грудью Лиза. — Я только одну. Это очень модные очень дорогие сигареты. Почти без никотина.
— Слава, где тебя носит? — задвигался главный фашист. — Давай, приступим. А то мы тебя ждем-ждем…
— Глинтвейн! Глинтвейн! — выкрикивала молодая девица. — Я говорю им: красное вино нужно пить подогретым. Апельсин туда, лимон, корицу… В такую погоду красное вино нужно пить подогретым, это я вам, как врач говорю…
— Будущий, — уточнил ее рыжий друг.
— Не важно. Глинтвейн!
Публика была вся новая. Никого, кроме Лизаветы, я здесь прежде не встречал. Оттого я под прикрытием общего оживления пробрался в самый дальний угол и устроился там в углу у книжных полок, схватил наугад томик. Схватил наугад, и прочел наугад.
Во глубинах души, из тьмы тысячелетий
Возникнут ужасы и радость бытия,
Народы будут хохотать, как дети,
Как тигры грызться, жалить, как змея…
Эти строки почему-то заставили меня вспомнить об Алексее Романове, — зоопсихологе, этологе ли: надо бы ему позвонить.
Строки принадлежали Валерию Яковлевичу Брюсову. Я пообщался с ним еще сколько-то, пока общество решало варить вино или только подогреть и на какие стулья садиться. Извлекло же меня из мусического убежища приподнято-любезное и даже несколько торжественное воззвание молодой девицы, медички:
— А я вас знаю! Я видела вас по телевизору! Какая-то такая… французская передача… «Лямур»?
— «Бонжур».
— Точно, «Бонжур»! Очень интересная передача. Я так уважаю TV!
— Я уже вижу, что вы не пропускаете ни одной. И все равно удивительно, что кто-то, пусть случайно, смотрит местное телевидение.
— Нет, почему же…
Нас, к счастью, окликнули.
Общество большей частью расселось вокруг стола. Мужичок в твиде устроился в кресле вместе с котом. Елизавета — у окна, теперь уже с чашкой в руке. Я же был так голоден после напряженного рабочего дня, что первое время не оглядываясь трескал все, что подворачивалось под руку и запивал дымящимся вином цвета драгоценной шпинели из белой фарфоровой чашки. Болтали о какой-то симпатичной ерунде, о неудаче американской станции на Марсе, о таинственных секретах дома Кристиан Диор… Все было так мило… И тут началось.
— Ты за кого будешь голосовать? — так вот запросто адресовался почему-то именно ко мне рыжий паренек, как видно, он был всегдашним закоперщиком политических диспутов.
— Что, опять за кого-то голосуем? — поинтересовался теперь уже я, дуя в чашку, чтобы отогнать от кромки плавающую в вине апельсиновую корку.
— Как это! — ошалел от такого попрания предмета достопочтенного рыжий. — Президента выбираем!
— A-а… Это конечно, — я счел своим долгом не расстраивать парня понапрасну. — Так вроде же недавно кого-то выбирали?
— То мэра…
Святослав и твидовый мужичок рассмеялись, отчего рыжий покраснел и начал злиться:
— Между прочим, все проблемы от нашего легкомыслия. А потом удивляемся, почему у нас в стране все через задницу делается.
— Через задницу? Вы уверены? — механически откликнулся я на брошенную реплику, сосредоточенно пережевывая кусок копченой макрели.
— Вообще-то он прав, — поддержал парня Илья Аркадьевич, главный фашист.
И этот уставился на меня, так что нужно было опять что-то говорить.
— Я очень уважаю ваш оптимизм, но разделить его не могу, — отвечал я. — Мне кажется, что в стране, которая приглядела путь колонии, президентов не выбирают, а назначают. Назначают хозяева. Колонизаторы. Как уж там это оформляется внешне, обусловлено только модой. Выбора нет. Его не может быть при заданных правилах игры.
— Ой, ну, что вы такое говорите! — не удержавшись, всплеснула руками защитница рыжего. — Сам американский президент перед главами всех держав, перед всем миром заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы наша страна была сильным партнером!
Такой аргумент в свою очередь озадачил меня:
— Но это просто оксиморон. Что за дичь! Кстати, заметьте, про Америку вы сами сказали. Но, сложившееся к концу двадцатого века мировое правительство не ограничено никакой территорией, его эмиссары повсюду; разумеется, их больше там, где лучше.
— Вот это действительно бред! — воскликнул мой главный оппонент. — Какое мировое правительство? Мы — суверенная страна!
— Да я и не навязывал никакой полемики. Но не верить своим глазам и ушам не могу. А ты не сердись, зачем? Выбирай, голосуй, — это тоже может быть очень увлекательным занятием.
Я обнаружил на себе пристальный взгляд прищуренных глаз младшего фашиста.
— Вы делаете интересные замечания, — врастяжку произнес он. — Говорите, говорите.
Председатель Русского Союза тоже был очень внимателен.
— Да нечего мне говорить. Лучше я съем вот эту…
— Хорошо, пусть наша страна — колония, — заговорил из своего кресла мужичок; он не глядел в нашу сторону, поглаживал кота, распластавшегося у него на коленях, и поэтому казалось, с ним и беседовал, — и в чем же тут каверза для рядового среднестатистического обывателя? Обывателю не все ли равно на кого он работает, на красных, на белых или на голубых?
— Ну, как же, Пал Палыч, — оживился теперь и Святослав, — еще вождь мировой революции говаривал, что население колоний эксплуатируют тысячами способов. Вывозят капитал, концессии, всяческий обман при продаже товара… Раньше учили.
— …а также колонизаторы подчиняют весь порядок жизни, общественные ценности, идеи интересам господствующей нации, — добавил я. — Так говорил Владимир Ильич. Хотя деньги-то на свою деятельность он получал от тех самых захватчиков. Странное однако же дело: народ большею частью безмолвствует, да, но время от времени какое-то просветление на него накатывает, и он уничтожает, облепивших его паразитов. Правда, это сопровождается большими хлопотами… для всех.
И зачем я поддерживал эту болтовню? Точно всечасно находился под опекой незримого режиссера. Ну, что мне было до мнения этих людей? Что им до меня? Ведь я уже почти знал, что модели характеров настолько прочны, что не предусматривают никакую качественную трансформацию. Никого я не собирался переубеждать либо напротив, — проникаться чужими принципами, чуждыми символами веры. И вот говорил же. Какое все-таки болтливое животное — человек! Ни одна тварь земная не производит столько пустопорожнего шума…