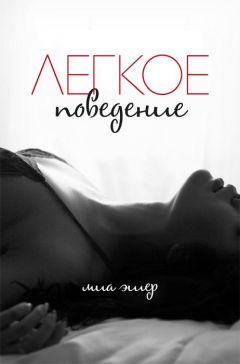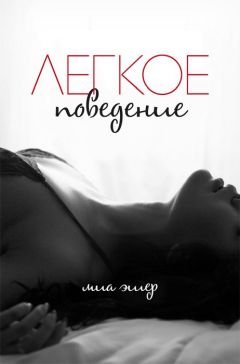Николай Полунин - Край, где Кончается радуга
Вест не спрашивал. Он пережидал сухость во рту и сердцебиение, и дрожь в мускулах. Ему ведь и сны теперь снились только о Крае, – когда снились. А чаще всего это была чернота, которую он сам придумал для себя, которую он сам научил себя видеть во сне. Он ведь уже почти убедил себя, что ему нечего вспоминать, он почти забыл, что это такое – вспоминать… Он выдохнул и посмотрел на руки. Подождал, пока они успокоятся. Так. Я не спрашиваю вас об Управлении, сказал он. Я, как видите, даже не спрашиваю вас, откуда вы узнали, кто я, а если я дело рук Управления, то кое-что о нем вы все-таки должны знать. Во всяком случае настолько, чтобы быть осведомленными о моем появлении, не знаю уж, каким образом осуществленном. Об этом я вас тоже не спрашиваю. Но что вы предлагаете – это я хотел бы знать. Только конкретно, по пунктам. Если уж вы хотите что-то менять у себя и зовете Человека, не желая объяснять, что и как он может сделать для вас, то хоть объясните, чего хотите вы сами? Почему, например, Уложения для вас – святая святых? Насколько я о них слышал, они-то и есть причина ваших бед. Их надо менять. Или упразднять вовсе, я так думаю… Ах, вы совершенно не понимаете нашей ситуации! – горестно вскричал Гата и вновь начал говорить о порядке и миссии, об исстрадавшемся народе и почестях, которые ждут избавителей. Вест немного послушал и перестал.
* * *
Прошел час. Оба устали.
– …и ничего я не могу вам обещать, – добавил Вест.
Гата выглядел не только усталым, но и раздраженным. Наверное, я кажусь ему бессмысленным упрямцем, подумал Вест. Или – что успел сговориться с кем-то. А ведь это опасно, вдруг подумал Вест, он же, чего доброго, стрелять вздумает, вон пистолет на пузе, что ему стоит. Нет, ну что на словах-то я с ним соглашаюсь, этого вопроса с самого начала не было, а вот на деле? И что же ты собой представляешь в действительности, а, Гата? Ну вот, я не знаю сам, сколько у меня в кошельке, а уже согласен торговать собой. Куда лезешь, Вест?
– Я придерживаюсь глубоко пацифистских позиций, – сказал он.
– Не понимаю, – сказал Гата.
– Гуманистских. Человеческих. Христианских, если угодно.
– Не понимаю, – повторил Гата. – Это игра словами. Какие еще могут быть позиции у Человека, как не Человеческие?
– Я вкладываю совсем иной смысл, – сказал Вест.
Из-за морды броневика показалась физиономия Серого.
– Начальник, – сказал он, – пойдем давай заправимся. Упрело все. И Пека надоел. Я его кокну, а?
Гата дернул круглой головой и немедленно налился краской:
– Я тебе! Я тебе сколько раз! Про дисциплину предупреждал тебя сколько раз? Не видишь – занят!
– Да ладно те, начальник, – Серый скрылся, крикнул оттуда: – Одну мы те оставим, но боле ничего!..
– Тоже освободитель? – кивнул Вест в ту сторону.
– М-да, – сказал Гата. – Рядовой состав, к сожалению, часто незрел. Однако, – сказал он другим тоном, – может быть, и впрямь… м-да… поедим?
– А как же риск? – напомнил Вест. – Ежеминутный который?
– Н-ну, будем надеяться, будем надеяться… – Гата поспешил пройти к костерку за бронемашиной. Идя следом, Вест невзначай глянул по сторонам, наверх, где кромка выработки ломано отрезала небо от земли. Дотуда было далеко.
Костер догорал между большими камнями, на которых лежала палка-вертел с тушкой кого-то. Тушка выглядела весьма подозрительно. Незнакомцев у костра был только один седенький Ткач, как ни странно – нормального желтого стариковского цвета. Остальные были те, кто привез Веста.
– Я, как хотите, – говорил, ни к кому персонально не обращаясь, седенький Ткач, – я ихнего ничего в рот взять не могу. У меня от ихнего живот болит. Вот тут болит и вот тут. Давеча требушинки крюком подцепили – из главной галереи приплыла – так ведь червивая. С виду ничего, натуральная, скользкая, правда, малость, долго, видать, плавала, но эта, червяки в ней. Во какие. Я, как хотите, но я отказался. Верите, говорю, сами и сами, говорю, кушайте, будьте любезны…
На лицах слушающих было написано явное нетерпение. Как только появились Вест и Гата, Серый бесцеремонно пхнул Ткача и рыкнул: “Все, завязывай трепаться. Давай”. Старичок безропотно умолк и вынул из тряпичной сумки блестящий куб с кнопками, родного брата того, что Вест видел у Шеллочки, только размером вроде побольше. Ткач принялся с ним возиться, что-то щелкая и набирая, медленно, останавливаясь и шевеля жухлыми губами. Пятнадцать последняя, подсказал Серый. Ткач отмахнулся. Во! – Литейщик показал Ткачу кулак, только попробуй, сморкач старый. Ткач ткнул последний раз и поспешно отставил куб. А через секунду чудо-кубик выплюнул из воронки брикет светлой массы в прозрачной упаковке.
– У-уй! – взвыл Серый.
– Хе-хе, – задребезжал Ткач, проворно подхватывая брикет. – Стариков уважать надо, – наставительно сказал он. – Это у тебя зубки молодые, а мне трофеи ваши кушать нечем.
– Вонючка старая, – приговаривал Серый, завладев в свою очередь кубом. – Что ж ты делаешь-то, а? Что ж творишь-то…
– Ну, смотри, – свирепо сказал другой вокер, у которого был драный комбинезон, – ну-ка, гляди!
Старичок только посмеивался. Обстоятельно исследовав брикет со всех сторон, вздохнул сокрушенно: эх, красоту портить! – и содрал до половины обертку. Он стал отщипывать обнажившуюся массу и есть. При этом он блаженно жмурился.
– Видали? – сказал Серый, взбалтывая бутыль без этикетки. Бутыль была литра на полтора, но плескалась в ней едва половина. – У, зараза! – сказал он старичку.
Бутыль пошла по кругу. Гата дал Весту нож, и Вест, как все, отрезал кусочки мяса, прожевывал их, жилистые и несоленые и даже глотнул спирта из бутыли, чтобы быть как все. Некоторое время он еще поглядывал вокруг, где какой большой камень и как поставлено оружие – у вокера в драном комбинезоне оно было ну совсем под рукой, но это ничего – бросок, кувырок и… и там посмотрим, потом до него донеслось слово “сонник”, и он стал прислушиваться к жалобам Серого. Ведь глазам не поверил, жаловался Серый, прям обомлел: заряд, понимаешь, хоть мизерный, но есть, а сонник валяется… у-у, рыло сидит, жмурится еще! Так-так, сказал Вест, вот он, значит, Он? – он не сонник, он сморкач старый. Нет, я говорю, штука это – сонник. А, да, сонник, рухлядь одноразовая… на еще глотни. А как он, интересно, устроен? Как! как! тебя надо спросить как, я что ли в них во все ножи вставляю. Что за ножи? Ну, железяка такая круглая, острая внутри – начнешь панель отдирать, она там поворачивается, и кранты всей конструкции-хренакции… эй, Человек, ты чего ж сонника-то не знаешь, вы чего на Той стороне, только нам их и шлете?
Вест заметил, что Гата сделал страшные глаза, и чтобы замять, выпил с Серым еще и согласился, что Пеку пора придушить за стукачество и общее неуважение. Правильно, давно пора, приговаривал Серый, правильно-правильно, в Квартале давно б уже сдох, а тут все трясет головенкой своей поганой, хочешь, я его счас?! Не надо, Гата не велит. Кто Гата, где?., а-а, да, правильно, не велит, значит, нельзя… У Гаты, слышь-ка, сынок в историю вляпался, пришил пару девок, а одна была дочка какой-то шишки в Страже, понял? И что? Еле Гата откупился, вот что. Чем он мог откупиться, у вас же нет денежной системы обращения. Чего-чего?.. дур-рак ты, Человек, он кто? – Гата, понимать надо. Что понимать? А то и понимать, думаешь, почему к Фарфору приходили на Тридцатые. Слушай, Серый, чего это я такой пьяный? А ты закуси. Да ну к черту кошатину эту. Сам ты кошатина. А я говорю, кошатина, все вы кошки драные, все, я от вас ушел, знаешь, как мне тут плохо, не набивался я к вам… А сюда никто не набивался, ты давай-ка со мной сиди, где сидишь, по сторонам не шарь, слушай, я тебе про Пеку расскажу… жил-был Пека, мелкий такой стукачок, мурзя, помыл он как-то у ребят в Квартале сонник полупустой… Как помыл? зачем помыл?.. Ну, стибрил то есть… ну, натурально, ребята ему, мол, что ж ты у своих-то? – а он нырь – и из Квартала уплыл, так и плыл мили две с сонником в зубах, да, Пека?., теперь ты у нас король подземелья… жмурится еще, паскудник…
Пришел в себя Вест у обломка плиты, стоящей торчком. Камень приятно остужал затылок. Еще мутило, но голова была ясной. Вест присыпал землей все, чем его вывернуло, и отодвинулся. В зажмуренных веках красное перемешивалось с черным, огненные пятна вдруг конденсировались в лица, лица… Литейщики, Ткачи, женщина Мария и Свен; в окне напротив дома Крейна – красивая девушка с по локоть ороговевшими руками, Весту сказали, что у нее начинается костянка, сама она уже не разговаривала, только плакала, тихонько воя; еще лица, что видел на улицах – почти человеческие детские, на которых еще светится индивидуальность, и взрослые, вокерские, – черствые, измятые, одинаково складчатые, у Литейщиков словно безгубые, безбровые, безресничные маски с глазами-щелочками, Литейщики – как квинтэссенция вокерства… Что же это за мир, кто его выдумал, у кого язык повернулся разуметь под человеком всего лишь еще один биологический вид. Вернее, не вид, а подвид. Есть вокер, есть Человек. У вокеров много разновидностей, у Человека их нет, так давайте сделаем из Человека вокера, они же так изумительно приспособлены, замечательно специализированы, великолепно монофункциональны! И Человек, Ткач, Расчетчик, и прочие, и те, кого не знаю и не узнаю никогда, – все-все в один ряд… И что же я могу, а я определенно что-то могу, эта возня неспроста, но что же?