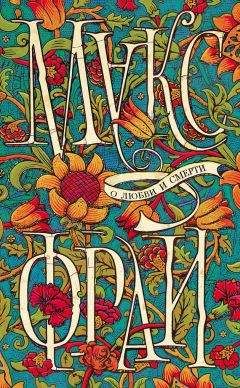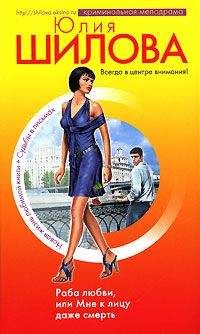Ольга Славникова - Легкая голова
— Стой! Стоять! Подлец! Предатель! Чтоб ты сдох! — эхом пронеслось по пикету, и демонстранты, кое-как придерживая траурные снимки, принялись выхватывать стволы.
Максим Т. Ермаков не сразу понял, что направленное на него оружие — игрушечное. Был момент, когда он замер, стремительно сжимаясь до какой-то бездонной внутренней точки, тупо глядя на уставленные в него пустые черные дырки. Тут же все это пластмассовое полое вооружение затрещало, защелкало, едко запахло пистонной гарью, брызнули тусклые струйки из ядовито-зеленых водяных пистолетов. Стриженая старуха размахивала мумифицированной штуковиной, похожей, если присмотреться, на самый настоящий революционный маузер. Красная перчатка судорожно тискала нечто дорогое и вороненое, точно это был камень, из которого она пыталась выжать воду. Максим Т. Ермаков, весь взмокший под глухим кожаном, сердито топнул и увалился в офисную дверь.
Ни к вечеру, ни на другое утро пикет не исчез. Правда, он несколько сменил состав. Наиболее вменяемых жизнь призвала заниматься делами (властную женщину в щипаной норке Максим Т. Ермаков не увидел больше ни разу); зато другие укрепились и стояли с безучастными улыбками, точно ждали в зале прилета какой-то потусторонний рейс с дорогими людьми на борту. К жертвам «Европы» присоединились жертвы пожара в Красноярске, теракта в Краснодаре, взрыва газопроводных труб в непроизносимом поселке под Уфой. Сплоченные группы активистов представляли две большие авиакатастрофы и не то пять, не то шесть крушений пассажирских составов.
На пятачке между офисными башнями возникли палатки, ходившие ходуном на сильном ветру. Всюду летал разноцветный прилипчивый мусор, гарцевали и цокали по черному асфальту легкие банки из-под пива. Среди пикетчиков выделялись сибиряки, привыкшие уважать свои трескучие крепкие зимы; здесь, под московскими мыльными дождями со снегом, они в куницах и лисах были как новорожденные птенчики с мокрыми перьями. Отдельно, под навесом из хлопающей парусины, располагались пострадавшие в инвалидных колясках. Некоторые, закованные гипсом в нелепые и патетические позы, напоминали поваленные статуи. Появление Максима Т. Ермакова пикетчики встречали всеобщим матерным воем и ураганной игрушечной трескотней. Толпа, опять ничего не придумав лучше, метала во врага народа гнилые овощи и другие малоаппетитные продукты; их Максим Т. Ермаков научился ловко отражать зонтом-автоматом, выбрасывая купол навстречу полужидкому обстрелу. Все-таки многие снаряды достигали цели, доставалось и коллегам гада и предателя, имевшим несчастье опаздывать и норовившим прошмыгнуть.
Максиму Т. Ермакову не возбранялось опаздывать; все были бы только рады, если бы он не появлялся вовсе. Непосредственная его начальница Ика была обойденная большой карьерой бывшая комсомолка, лютовавшая теперь в своем двадцатиметровом, дешево обставленном кабинетике. Примерно раз в три дня Ика предлагала Максиму Т. Ермакову написать заявление по собственному.
— Макс, ну вы же понимаете, — говорила она, осторожно трогая прическу, в которой, казалось, каждый волосок был позолочен и уложен отдельно. — Все, что вокруг вас творится, несовместимо с имиджем фирмы. Перед офисом стало как перед вокзалом, честное слово. Да вы потом отлично устроитесь! А пока корпоративная лояльность призывает вас…
— Не призывает, — перебивал начальницу Максим Т. Ермаков. — Никакого заявления писать не буду. Нет, и все.
— Это вы мне говорите «нет»? — всякий раз поражалась Ика, бледнея под пудрой, так что становились видны два не совсем совпадавших лица, одно нарисованное и одно настоящее.
— Вам, вам, Ирина Константиновна, — хладнокровно подтверждал Максим Т. Ермаков. — Четвертый или пятый раз, между прочим. А хотите, так увольняйте меня сами, по статье. КЗОТ еще никто не отменял. Приказ издайте, мол, за нарушение трудовой дисциплины Ермакову выговор. Я нарушаю? Нарушаю. Чего же вы ждете?
— Вы не только опаздываете, вы еще и работать перестали совсем, — эти слова начальницы сопровождались тонким дребезжанием, исходившим не то из ее разбитого комсомольского сердца, не то от стаканчика с остро заточенными карандашами.
— Работать? Без бюджета? — саркастически спрашивал Максим Т. Ермаков, задетый денежным вопросом за больную струну. — Мне на свою зарплату билборды обеспечивать? Расклейки в метро? Вот как было бы удобно: плати сотруднику шесть тысяч баксов, а дальше он сам подсуетится! Свои, если надо, выложит! Может, мне грант у Министерства культуры на нашу рекламу испросить?
— Ермаков! Раньше вы так не разговаривали!
— Раньше у нас не торчало по десять гэбэшников на каждом этаже, — задушевно напоминал Максим Т. Ермаков. — Ну, давайте, попробуйте, увольте меня!
Тут начальница без слов откидывалась в кресле и принималась гипнотизировать Максима Т. Ермакова холодными глазами, светлыми с паутинкой, от которых, должно быть, в лучшие времена у подчиненных бежал по коже легкий мороз. Теперь уже был далеко не тот эффект. Себе рассерженная Ика наверняка казалась коброй, грозно раздувшей капюшон, а Максим Т. Ермаков видел злую неудачницу, ни на что уже не годную, кроме как спускать представительские деньги на стилистов и косметичек. «Что ты такое по сравнению с моими государственными головастиками?» — не без самодовольства думал он, откланиваясь — и действительно натыкался в предбаннике на скромный экземпляр социального прогнозиста, который мирно что-нибудь читал или возился с хрипящей кофеваркой. Между прочим, Маленькой Люси все чаще не случалось на рабочем месте. Если же она сидела за своим аккуратным секретарским столиком, то все равно как будто отсутствовала. Максим Т. Ермаков догадывался, что она либо бегает к сыну в больницу, либо водит его на медицинские консультации, либо что-то в этом роде. Выглядела Маленькая Люся настолько плохо, что Максим Т. Ермаков даже смог представить боль, которую испытал бы близкий ей человек при виде ее опухшего личика в мутных очках и синеватых ноготков, прозрачных, как рыбья чешуя. Максим Т. Ермаков даже готов был помочь ее больному сынишке, но только не самым радикальным способом.
В промежутках между появлениями Максима Т. Ермакова лагерь пикетчиков жил своей собственной повседневной жизнью. Дважды в день знакомый гэбэшный фургончик с рекламой садовой мебели на борту подвозил горячую пищу. Откидывался задний борт, тетеньки в халатах сомнительной белизны переваливали алюминиевые баки, шагая с ними, будто с начинающими ходить тяжелыми младенцами, поближе к краю платформы. Снизу им протягивали бесформенные, как ямы, железные посудины, сизые губы хватали горячую картошку — во всем этом было что-то фронтовое, гиблое и героическое, и клерки, поглощая в офисных кафетериях бесплатный корпоративный ланч, ощущали необъяснимый дискомфорт.
И вот что интересно: за целых две — нет, кажется три, вернее, три с половиной — недели в лагере не появилось ни одной телевизионной камеры. Ни одного завалящего журналюги, ни одного сюжета в новостях.
Теперь после работы Максим Т. Ермаков испытывал желание напиться — что в его специальном случае было все равно что хотеть уснуть во время жестокой бессонницы. Бросив в багажник вонючий кожан, он колесил по знакомым питейным заведениям, благо никакие тесты дорожных инспекторов не реагировали на его организм, влей он в себя хоть целое ведро.
Диму Рождественского Максим Т. Ермаков обнаружил в баре «Разгильдяй», где ему по совести было самое место. Журналюгский журналюга сидел у стойки, сосредоточенно нюхая желтое содержимое своего стакана. Его остекленелые глаза блестели тем же округлым блеском, что и протираемая барменом пузатая рюмка; на светлом шелковом галстуке у Рождественского темнел потек, похожий формой на восклицательный знак.
— Давай, за компанию, — двинул он стакан в сторону подсевшего Максима Т. Ермакова и, не найдя встречного сосуда, чтобы чокнуться, пихнул соседа в плечо.
Говорили, что Дима Рождественский получил повышение: теперь он заведовал отделом «Общество» в своем полуживом таблоиде, похожем на запущенный огород, с главным редактором, запиравшимся в своем кабинете на много суток и вылезавшим оттуда красным, как марсианин, почти забывшим русский язык. Работать в газете было практически некому — этим, вероятно, объяснялось повышение Рождественского. Журналюгский журналюга мало смыслил в общественных вопросах, но умел к любому факту присобачить глумливый комментарий, создававший впечатление, будто автор знавал намного лучшие общества, чем то, в котором вынужден, держась за больную голову, просыпаться по утрам. Эта же глумливая манера заразила и устную речь Димы Рождественского. Он обожал пугать молодых журналисточек и пиарщиц, намекая на неантропоморфные тайны профессионального мира. Он гипнотизировал жертву тяжелым взглядом, с трудом поднимаемым выше стола, и дружеским жестом, каким кладут собеседнику руку на плечо, брал коллегу за грудь.