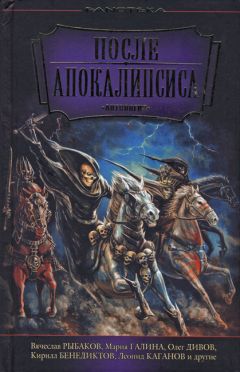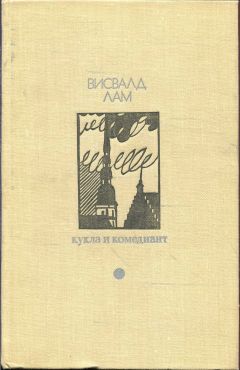Виктор Колупаев - Сократ сибирских Афин
— Что же, Симмий, Кебет и глобальный человек, позволим ли мы великому Межеумовичу шутя сводить высокое пророчество Сократа к чиханию и предметам, которыми забавляются по пустякам невежды? Ведь где налицо действительная опасность, там уж, по Еврипиду, “железом, а не шуткой спор решается”.
Симмий с Кебетом отмолчались, а я согласился, мысленно, конечно.
Не подрались бы только.
— То, что сказал многоумный Межеумович, нетрудно опровергнуть, — продолжил Протагор. — Подобно тому как во врачевании биение пульса служит малым знаком, много говорящим о состоянии больного, и как для кормчего крик морской птицы или прохождение бурого облачка предвещает бурный ветер и жестокое морское волнение, так для вещей души гадателя вещь сама по себе ничтожная может быть знаком чего-то важного. Ведь ни в каком мастерстве не забывают о том, что малое может предзнаменовать великое, а малочисленное — многое.
Да… Не слишком далеко ушел в своих предположениях великий Протагор от учеников Симмия и Кебета.
— Приведи пример, Протагор, — возбужденно сказал диалектик, — а то я и вовсе не поду в гости к Сократу, даже по Коммунистическому проспекту.
— Пожалуйста, — сказал Протагор и, похоже, что он имел в виду не пример, а самоустранение Межеумовича от возможного или еще только предполагающегося научного симпозиума у Сократа. — Человек, незнакомый со смыслом письменности…
— Это я-то незнаком со смыслом всей до самого последнего многоточия письменностью! — взвился материалист. — Да я ее всю вдоль и поперек прошел! И постиг полностью и бесповоротно!
— Так вот, — сделал второй заход Протагор. — Человек, незнакомый со смыслом письменности, видя немногие и невзрачные по форме начертания, не поверил бы, что знающий грамоту может извлечь из них сведения о великих войнах и политических переворотах, происходивших у древних народов, об основании городов и коллективных хозяйств, о деяниях и судьбах царей и Первых секретарей Самой передовой в мире партии, и сказал бы, что какой-то даймоний развертывает перед ним повествование обо всех этих делах исторического прошлого…
— Исторического и диалектического, а к тому же — и материалистического прошлого! — уточнил Межеумович.
— И мы бы весело посмеялись над неразумием этого человека, — сумел-таки закончить свою мысль Протагор. — Смотри же, несгибаемый Межеумович, как бы мы, не зная силы тех данных, которыми располагает мантика для суждений о будущем, стали неразумно выражать неудовольствие, если осведомленный в мантике человек делает из них выводы, касающиеся будущего, и при этом утверждает, что его действиями руководит не чихание, а даймоний.
— Нет — чихание! — уперся материалист.
— Тут я обращаюсь к тебе, непобедимый в философских спорах Межеумович. Ты удивляешься, что Сократ, более чем кто-либо из людей, за исключением тебя, разумеется, очеловечивший философию устранением из нее всякой напыщенной темноты, для этого своего знака избрал не чихание, а даймоний. А я вот, наоборот, удивился бы, если бы такой мастер диалектики и владения словом…
— Какой он диалектик?! — не выдержал Межеумович. — Да и слова из него не вытянешь!
Сократ, действительно, продолжал стоять молча.
— Так вот, — попытался закончить свою мысль Протагор, — я, наоборот, удивился, если бы Сократ сказал, что получает знак не от даймония, а от человека. Это то же самое, как если бы кто сказал, что его ранило копье, а не посредством копья метнувший это копье человек; или что тот или иной вес измерен вечами, а не сделавшим взвешивание человеком посредством весов. Ведь действие принадлежит не орудию, а человеку, который пользуется орудием для этого действия.
— Вот он, махровый софизм! — обрадовался Межеумович и чихнул. Видать, этот чих выскочил у него без всякого предупреждения, да и получился каким-то тщедушным, поэтому диалектик не смог произвести с его помощью решающий материалистический эксперимент. Но второй свой чих он мысленно успел предугадать, забежал за спину Сократа и там уже произвел оглушительный залп. Третий чих раздался перед Сократом, четвертый — слева, пятый — справа. Надо полагать, что даймоний Сократа окончательно запутался в сложных определениях местоположения чихов относительно Сократа и теперь выдавал противоречивейшую информацию.
— Так что же такое твой даймоний, Сократ? — осмелился спросить рыжеволосый Симмий, но, не получив никакого ответа, больше не допытывался. А черноволосый Кебет и вовсе ничего не спросил.
Сократ же вдруг молча пошел по труднопроходимой улице Коробовщиков. Протагор бодро зашлепал сандалиями, стараясь не отстать от старого друга.
— А мы докажем вздорность Сократовых измышлений! — крикнул Межеумович. — Вперед! За мной, молодость материалистического мира!
И столько убедительности и правоты было в его голосе, что и Кебет, и Симмий, и даже я, а заодно еще человек двадцать совершенно посторонних и далеко не молодых людей бросилось за Межеумовичем.
Мы мощно шли по Коммунистическому проспекту, окаймленному на уровне первых и вторых этажей супермаркетами с заграничными, варварскими товарами, частными банками, фирмами, трестами, компаниями, их дочерними и внучатыми отделениями, рекламой на иноземных языках, панно, транспарантами, витринами с обнаженными женскими телами и укутанными в меха манекенами. Все здесь влекло и звало вперед к светлому настоящему всего прогрессивного человечества, если у него водились деньжата, — дикому и необузданному капитализму. Да мне-то что…
Межеумович вырвался далеко вперед и там уже кое-где начали громить закусочные и забегаловки “Макдональд” и вовсю бороться с глобализмом. А поскольку я, как-никак, был все-таки глобальным человеком и не скрывал этого, то, чтобы не привлекать внимания, сделал вид, что веду разговор с Симмием и Кебетом.
— Мне часто доводилось быть свидетелем того, — утверждал Симмий, — что Сократ людей, говоривших о том, что им было явлено божественное видение, признавал обманщиками, а к тем, кто говорил об услышанном ими некоем голосе, относился с уважением и внимательно их расспрашивал. Это наблюдение побуждает меня сейчас подозревать, что даймоний Сократа является не видением, а ощущением какого-то голоса или созерцанием какой-то речи, постигаемой необычным образом, подобно тому как во сне нет звука, но у человека возникают умственные представления каких-то слов, и он думает, что слышит говорящих.
— Ну, — энергично подтвердил я.
Симмий и Кебет посмотрели на меня с уважением.
— Но иные люди и во сне, — подхватил Кебет, — когда тело находится в полном спокойствии, ощущают такое восприятие сильнее, чем слушая действительную речь, а иногда и наяву душа едва доступна высшему восприятию, отягченная бременем страстей и потребностей, уводящих ум от сосредоточения на явленном.
— У Сократа ум чист и не отягчен страстями, — внезапно выпалил я. — Его ум лишь в ничтожной степени в силу необходимости вступает в соприкосновение с телом.
Симмий и Кебет остолбенели от такой моей речи, а потом наперебой начали водить стилосами по вощеным дощечкам.
— Ну, — заключил я, чем чуть было не поверг в шок обеих, а сам подумал: неужели и у меня ученики появились?
Мои мысли они записали и на дощечках еще осталось чистое место. Но я не хотел на каждом шагу разбрасываться идеями, поэтому Симмий и Кебет снова повели философский разговор, иногда поглядывая на меня, как бы ища одобрения.
— Наверное, — робко начал Симмий, — в Сократе сохранилась тонкая чувствительность ко внешнему воздействию, и таким воздействием стал для него, как можно предположить, не звук, а некий смысл, передаваемый даймонием без посредства слышимого другим голоса, соприкасающийся с разумением Сократа как само обозначаемое.
— Точно, — согласился с ним Кебет и посмотрел на меня. — Ведь когда мы разговариваем друг с другом, то голос подобен удару, через уши насильственно внедряющему в душу слова. Но разум более сильного существа ведет одаренную душу Сократа, не нуждающуюся в таком ударе, соприкасаясь с ней самим мыслимым, и она отвечает ему, раскрытому и сочувствующему, своими устремлениями, не возмущаемыми противоборством страстей, но покорными и уступчивыми, как бы повинующимися ослабленной узде.
Впереди по проспекту Коммунистическому началось какое-то странное движение. Что-то приближалось к нам. Опять, наверное мы-все балуемся, подумал я. Надо бы покрепче взять себя в руки, а то ведь и потеряться можно.