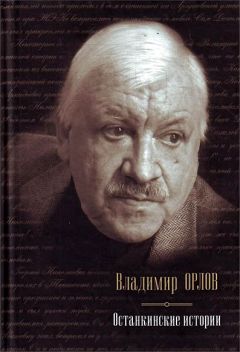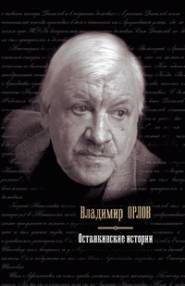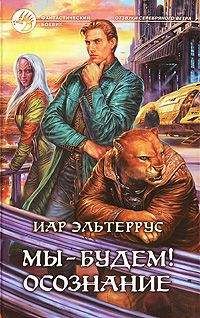Владимир Орлов - Шеврикука, или Любовь к привидению
– Пить! Пить!
– Лей ему снадобье. А потом дай и морсу своего чудесного. И мокрое полотенце на голову.
– Он сам тянет руку к ковшу.
– Пусть сам и подносит ковш ко рту.
– А где Омфал? Где дельфийский Омфал? Уворовали?
– Опять открыл глаза и нас не видит. Какой Омфал? Он бредит?
– Не совсем бредит. Но и бредит. Пой ему еще, пой…
– Милый, ты опустись, приляг. Я налью тебе. Еще поднесу ковш. Вот, все. Сейчас утру капли… И лежи. Раскинулось море широко, уж берег не видно вдали…
– Он что – матрос Вакулинчук, что ли?
– А ты не шипи! Готовь свои водные процедуры… Товарищ, мы едем далеко, подальше от грешной земли…
Куда его везут, раскачивая, бросая со льда в костер? Куда его вообще могут увезти от грешной земли? Никуда. Он прикован к грешной земле… сказал кочегар кочегару… Кто этот кочегар? И кто кочегар другой?.. Огни в моей топке давно не горят, растапливать нет больше жара… Кто опять вздымает вверх наволочки, ставшие парусами?.. Малохол? Неужели Малохол? Откуда здесь Малохол? Зачем ему наволочки? Зачем ему дельфийский Омфал? Сгинь, Малохол!.. И упрыгал, упрыгал Малохол, бросив наволочки, сейчас же ставшие простынями и унесенные в выси. А Малохол все прыгает через дубовые колоды, все скачет! Но это не Малохол. Это же Илларион. Это на самом деле Илларион. И скачет он в Гатчинском подземелье, ведущем к гроту и озеру, продолжая чехарду с Павлом Петровичем и Александром Федоровичем. От свечей тени всех трех скачущих, по приличиям игры, по очереди, – великански чернеют и растут… На палубу вышел, сознанья уж нет, в глазах у него помутилось… Где Илларион, где император, где главковерх? Ускакали. В никуда. И свечи в потайном ходу гаснут. Навсегда. И тьма. Навсегда…
– Где я?
– Открыл глаза. Снова не видит?
– Увидит.
– Где я?
– Там, где находишься. Более нигде.
– Кто вы?
– Всмотрись. Может, и вспомнишь. Сколько нас?
Чистая комната. Чистые стены. Чистый потолок. Окно. И в нем – несущиеся облака, серые с голубыми промоинами. И деревья, золотые, бурые, пурпурные, звонко-красные и зеленые. Над ним трое. Двое мужчин и женщина.
– Зачем закрыл глаза? Не нас рассчитывал увидеть. Увы, но других здесь нет.
Над ним трое. Илларион, Малохол и Стиша.
– Спасибо вам…
– Ну хоть что-то разумное, – сказал Илларион.
– Что и как произошло? Не тогда… на Покровке… А после?
– Проще простого. Государственная смена летнего времени на зимнее. Перевод часовых стрелок…
– Я не понимаю.
– И не надо. Потом, может, поймешь. Потом объясню доступными словами. А благодарить надо не нас. Мы лишь пробыли некоторое время сиделками, с корыстными, возможно, целями. Благодарить ты должен своего подселенца-полуфабриката. И отчасти, в мельчайшей степени, Увеку Увечную, Векку Вечную, Викторию Викторовну.
– А ты ей не верил, – покачала головой Стиша.
– Пэрст-Капсула? Я не понимаю…
– И я поначалу не понимал, – сказал Илларион. – Потом понял.
– Он где?
– Сюда он не вхож. Сюда почти никто не вхож, – сказал Илларион. – Кроме нас. Ты здесь в полнейшей конфиденции.
– Я под арестом?
– Нет. Хотя намеревались избрать и такую меру пресечения. Ты дал к тому поводы. Но нет, ты в затворе. Ты в Сокольниках, в профилактории Малохола. В твоих же интересах. И еще кое-каких. Как ты сюда доставлен, опять же не суть важно. А теперь, как обрывают беседы в детективах: пациент устал, разговор заканчивайте. На три дня поступишь в распоряжение Малохола, его бань, душей, бассейнов и восстановительных орудий. Очухаешься вконец, сможешь выслушивать ответы на собственные вопросы и ласково взглянешь на Стишу.
– Ох, да зачем мне этот вертопрах Шеврикука! – вскинула брови Стиша.
– Ну, не на Стишу, – сказал Илларион. – Еще на кого-нибудь попригляднее.
– Это на кого же? – возмутилась Стиша.
– Скажу только, – Илларион направился к двери, – что ты замереть сумел и успел. Это тебя и спасло. Но замер так, что вывести тебя в жизнь было нелегко.
– Спасибо…
– Да при чем тут спасибо! – Илларион поморщился, махнул рукой и вышел.
74
Была в хозяйстве Малохола и баня по-черному под соснами по соседству с мелким прудом. В ней Малохол и начал возобновление в Шеврикуке соков и сил. Потом произошел переход в здешние Сандуны, потом в сауну и в турецкую баню.
– Я понимаю, – сказал Малохол, – какую степень доверия ты испытываешь к нам… Не к нам, скажем… А ко мне… Но придется потерпеть…
– Потерпим, – кивнул Шеврикука. – Мне только и остается теперь, что терпеть… Но отчего в прошлый раз ты приказал мне более никогда к тебе не заглядывать?
– Я знал, – сказал Малохол, – что на тебя положены глаза, не было нужды и нам попадать под взгляды Недреманных Очей, проявляя к тебе дружелюбие. Нам же надлежало тебя поддержать позже.
– С чего бы? На кой я вам?
– Илларион тебе потом объяснит.
– А не из-за Стиши – в прошлый раз?
– Чуть-чуть из-за Стиши. Я же ревнивец… Но чуть-чуть…
– Полагаю, что будет еще немало поводов для моих удивлений и огорчений…
– Да, – подтвердил Малохол. – Кое-что тебя расстроит. Но ведь тебя предупреждали.
– Кто? О чем?
– Ну… – замялся Малохол. – По крайней мере о двух предупреждениях мне известно. Однако отмокай. А потом или сам выстроишь догадки, или задашь вопросы. Хотя бы и Иллариону. А у некоторых ты и не пожелаешь ничего спрашивать. Еще два дня, и я передам тебя Иллариону. Банщик и массажист тебе более не нужен. До поры до времени.
Через два дня явился Илларион. Он словно бы тоже был вынужден снимать напряжение в профилактории, носил спортивный костюм, кроссовки и походил на теннисиста, опечаленного отсутствием в здешней местности корта. Загар же его вызывал мысли о том, что Илларион совсем недавно лежал на тунисских пляжах. Молчал Шеврикука, молчал Илларион, заглядывал в томик Вовенарга и порой иронически улыбался. Иногда призывал Шеврикуку совершить поход в Сокольнический парк, но и там путешественники медлительно молчали. Синоптики толковали о необыкновенной продолжительности нынешнего бабьего лета, и действительно, снег не выпадал ни разу, в парке цвета были желто-зеленые, лимонные и багряные, а на рынках торговали белыми грибами.
Шеврикука удивлялся терпению Иллариона, свойство это не было присуще его натуре. Но он не знал, в каких значениях приставлен к нему Илларион, заводить же разговоры об этом не считал уместным. Ясно было, что он, Шеврикука, натворил нечто досадное, требующее допросов и наказания. Но возможно, что его надзиратели полагали, что подследственный пока не созрел и пусть еще погуляет до протоколов. Но что-то было и не так. Ни в Малохоле, ни в Стише не хотелось подозревать теперь фальшь. Ночевали они с Илларионом в щитовом домике у забора, через который накануне марафонского забега на Башню перебирался жаждущий Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный. В домике хранился садовый инвентарь.
Среди этого инвентаря вряд ли могла валяться арфа, какую однажды Шеврикука увидел вблизи Иллариона. То есть это Илларион сидел на табурете вблизи арфы многострунной, перебирал эти многие струны, вызывая тихую мелодию, отдаленно напоминающую Шеврикуке арию героя кавалера Глюка. Потом Илларион заиграл «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс…», продолжив «Гром победы» парижским маршем воинов Александра Первого.
«До чего я его довел…» – подумал Шеврикука.
– Ну что? – заговорил Илларион. – О чем начнешь спрашивать? О наволочках? Или о Гликерии?
– О наволочках, – сказал Шеврикука.
– Общественно-сословное прежде всего! Как же-с! – одобрил его Илларион. – Но, к сожалению, милостивый государь, наволочки, простите за выражение, увязаны с Гликерией Андреевной.
– Она всему причиной?
– Всему причиной ты. Но тебя использовали разные силы. В их числе и Гликерия.
– И много было разных сил?
– Мне известно о пяти. Корыстных.
– Ты – шестая сила?
– Нет, – покачал головой Илларион. И провел рукой по струнам арфы. – Не шестая. Я в этом случае и вовсе не сила. Я замешан, но сбоку припека. И без корысти.
– От скуки. И из любопытства.
– Верно. И ты должен был бы иметь это в виду.
– Я и имел, – сказал Шеврикука. – Но увлекся.
– Ты увлекся. И тебя увлекали.
– И Гликерия?
– Ты этого будто бы не понял? И будто бы не слышал моих предупреждений?
– Твои предупреждения были сдержанные и лукавые. И ты играл, меня поддразнивая.
– Допустим. Но ведь ты вовсе не простак.
– Что ты теперь обо всем этом скажешь?
Илларион сказал. Он встал. Казалось, он мог распорядиться, чтобы арфа, как предмет неуместный, исчезла. Но арфа оставалась стоять в тесноте служебного домика, и Илларион, прохаживаясь в этой складской тесноте, порой натыкался на сладкострунный инструмент, вызывая вовсе не волшебные, а скорее ржавые звуки. Морщился при этом. Но ржавые-то звуки, может быть, как раз и оказывались подходящими к его словам.