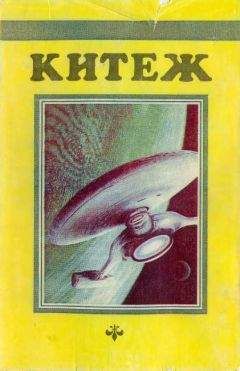Александр Етоев - Пещное действо
Все это время Капитан смотрел куда-то вперед, поверх гарцующего над краем пропасти Жданова, словно видел там, вдалеке, тихий свет, и сад, весь светлый после прошедшего ливня, и капли, высыхающие на полдневных кустах. Лицо его было тихое.
– Капитан, – позвал его Жданов. – Утро уже, а мы с тобой еще живы. Странно. Сегодня я видел ее. У дерева. Еще там была змея. Я ее закрасил в зеленый цвет. Ты в детстве когда-нибудь приручал крыс?
Капитан поднял лежащую на боку бутылку, посмотрел на свет, там еще оставался глоток.
– Жданов, – сказал он, глядя сквозь дымчатую призму стекла, – у нее никогда не было детей, и мы ее дети. Это она сделала нас такими, какими мы стали.
– И поэтому…
– И поэтому мы все здесь. Мы ехали сюда не за ней, мы ехали для нее.
– Ее надо спасать?
– Не знаю, это не важно. И поздно. Да и к чему?
– А Дракула? Он что, по-твоему, ей Льва Толстого читает? Нет, Капитан, раз мы ехали для нее, то тут и говорить нечего. Идем. – Он поднялся и твердым шагом направился к лестничному колодцу.
Пожав плечами, Капитан посмотрел на каменные зубья стены, размахнулся, швырнул бутылку и двинулся за ним следом.
Пластинка кончилась, отпел итальянский бас, и сразу же заиграла другая.
Зискинд вздрогнул, из электрической полутьмы выпорхнула белая бабочка, протянула к нему свои легкие слюдяные крылья, обняла и тихонько потянула к себе.
Он обмер. Лицо Анны Павловны то уплывало далеко-далеко, то губы ее задевали своим дыханием его ледяную кожу, и домашнее, легкое, давно потерянное тепло грело сердце надеждой.
– Анна Павловна…
Он никогда не называл ее по другому – ни Аней, ни Анной, ни даже Анечкой, он и «ты» говорил ей всегда с сердечной заминкой, словно бы извиняясь, и вкладывал в него столько себя, что «ты» каждый раз звучало больше, чем «вы».
– Я все помню, сверчок. Не говори ничего, молчи.
Два года они промучались вместе, два года он строил храм для своей богини, два года она называла его сверчком, когда была добрая, и молчала, когда была злая, два года она терпела пурпур царских одежд, стирала тряпочкой пыль с километров библиотечных полок, пугалась долговязого Мефистофеля, который корчился гипсовым иероглифом со своей подставки в углу, два года она любила, терпела и ровно через два года сказала: «Сверчок, я тебя очень люблю, но лучше я буду жить на земле». Храм рухнул, белый античный камень растворился, как соль в воде.
Он молчал, ловя слюду ее рук, она кружилась вокруг него, и он неловко перебирал ногами, сбивался с такта, ступни прирастали к полу, он старался за ней успеть, не получалось, они были в разных мирах, и время в них было разное: одно – тяжелое, как больная кровь, другое – легкое, летучее, как воздух в апреле.
Он любил, она улетала, он топтался на одном месте, не говорил ничего, молчал. Он был счастлив.
– Бедный, пьяненький, все такой же. Помнишь Калинкин мост?
Капитан помнил.
Они медленно плыли в тяжелой от музыки полутьме, ее пальцы водили по его небритой щеке, по синему выцветшему якорьку на запястье, она дышала на его волосы, хотела сдуть серебряный налет времени, которое разделяло их, как серебряная океанская пыль разделяет тех, кто уходит, и тех, кто остался ждать.
– А помнишь…
Он поцеловал ее в подбородок.
Она закрыла глаза.
– Все такой же. Все ищешь остров…
– Потерял.
– Нет. Поцелуй еще. Я хочу запомнить.
– Это было давно.
– Это будет всегда.
– Не знаю, – сказал он и пожал плечами.
– Наверно, – сказал он, заглядывая в ее глаза и видя в них свое отражение.
Жданов нервно перебирал ногами, стараясь вырваться из гибельной паутины танца.
– Аня, все я. Я один во всем виноват. И путешествие это из-за меня. И то, что они поехали. Но еще можно закрыть на это глаза, еще можно…
– Я зажмурюсь. – Она ткнулась глазами в его плечо, плечу стало тепло и мокро.
– Мы уйдем, Анечка, я знаю, как отсюда уйти, я… я люблю тебя, нет, можешь меня не слушать, это я для себя говорю, но ты должна все забыть, я не со зла, просто было обидно, просто хотелось хоть так, хоть через это – вернуть тебя… нет, вернуть уже поздно, но хоть увидеть в твоих глазах – помнишь, как ты на меня смотрела когда-то, помнишь – ночь, твоя Моховая, Фонтанка, огни на воде… Это же было. Или не было? Аня, скажи, ведь было?
– Жданов-Жданов, как много ты говоришь. Всегда много…
– Мы же любили друг друга, скажи, ведь любили, да?
– Тебе нравится эта музыка?
– Ну при чем тут… Ты же знаешь.
– Ничего я не знаю, Жданов. Дай мне помолчать.
– Аня… – Он с силой сдавил ей плечи. Черный тяжелый костюм был тесен, как смирительная рубашка. Галстук мешал дышать. Лакированные ботинки жали.
Музыка стала вязче. Он потянул ее к тусклому пятну выхода. Медленно плыли скрытые под ракушечными пластинами пригашенные электрические светильники. Верх грота и стены скрывал туман, в тумане плавали остроклювые большеглазые рыбы, они двигались, повинуясь звукам, свет дробился на их лоснящейся чешуе и ложился на плечи, волосы, лицо Анны Павловны маленькими живыми блестками.
– Чертово место. – Жданов упорно вел свою Анну к выходу. Она не сопротивлялась. Рука ее была безвольной и мягкой. Музыка не стихала. Тусклое пятно, к которому они шли, то делалось совсем узким, как лезвие отточенного ножа, то росло в ширину, края его закруглялись, пятно наливалось светом, лопалось, превращалось в точку, точка начинала расти, росла, а Жданов все шел и шел, ведя за собой тихую, словно тень, Анну Павловну.
Он уже чувствовал холодок воздуха, когда музыка, сделав плавный изгиб, вдруг сорвалась в какую-то пропасть – гулко забили дикие африканские барабаны, закипела медь боевых труб, голос татарских степей смешался с топотом янычарской конницы. Пятно на стене сделалось четким и ярким – в нем проступили черты человеческого лица.
Влад Цепеш стоял в проеме, покачивая в руке высокий стеклянный кубок.
– Господа мужья и любовники. Бал не кончен, главное – впереди. Эй, человек, огня!
Черная запятая в небе, как ресница в божьем глазу, сначала лежала мертво на холодном утреннем воздухе – не приближаясь, не падая, не убегая вверх от острых зазубрин леса. Потом появился звук – застучал слабенький молоточек, потом звук сделался громче, и из-под стены с воротами, где сгорбился над пушкой Кишкан, можно было уже различить, какая птица царапает кожу неба.
Самолетик был мал и легок, и высокая голова летчика горела в утреннем свете, как веселое пасхальное яйцо.
Кишкан заправил ядро и, усевшись по-турецки у пушки, принялся ждать.
Мотор тявкал, как дурная собака, Пучков скрипел рычагами, золотые плоскости крыльев ловили солнечный свет и дрожали под переливами ветра.
Игрушечный замок Цепеша лежал на земле подковой, пепельные волны холмов обтекали его с востока, к западу умирали и переходили в поля, луга, в зеленые гурты виноградников, в туман, который охватывал безвидную и пустую землю, холодный север и юг, оставляя взгляду лишь небо с застывшим призраком солнца.
Пучков подал самолет вниз, и замок Цепеша стал вырастать, блестя на солнце плоской смоляной крышей и скалясь зубьями стен.
– А ну, птица, поклюй наших зернышек. – Кишкан поджег короткий фитиль, пушка ухнула и вместе с завитком дыма выбросила в небо огонь.
Пучков видел, как из-под низкой стены, оплетенной проволокой воды, вылетело огненное колечко, ветер принес запах пороха, и облако, висевшее на хвосте машины, окрасилось в бурый цвет.
Пучков помахал рукой невидимому с высоты стрелку.
Второе ядро окатило теплой волной правую щеку летчика, самолет легонько тряхнуло, и, не став дожидаться третьего, летчик резко направил машину вниз.
– Вот и воюй с такой артиллерией, илла лахо! – Кишкан плюнул на горячий чугун. – Ладно, летун, лети. Дальше смерти не улетишь. – Потом задрал голову вверх и крикнул железной птице: – Добро пожаловать к нашему костерку! Не стесняйтесь, присаживайтесь, всем места хватит.
– Какой валютой платили за аэроплан? Как всегда натертыми пятаками? – Кишкан, посмеиваясь, смотрел на летчика, как тот заякоривает машину за ближний к краю крыши зубец.
– Сейчас. – Пучков вытер о штаны руки и стал сосредоточенно рыться в своем видавшем виды саквояжике с инструментом.
– Ну-ну. – Кишкан подошел ближе.
– Маслопровод течет, – не вынимая из саквояжа рук, Пучков кивнул куда-то под брюхо машины, – у тебя ключа на двенадцать нет?
Кишкан, почесывая в затылке, подошел к крылу самолета, втянул носом теплый масляный дух, нагнул голову, почмокал губами. Головка гаечного ключа вошла ему точно в макушку, Кишкан даже не вскрикнул, просто мягко завалился на грудь и замер в тени машины.
Пучков сунул в саквояж ключ, аккуратно защелкнул замок и спрятал саквояж под сиденье. Молча, он приподнял тело за плечи, подтащил к краю крыши и сильным толчком ноги сбросил Кишкана вниз.
С минуту он оттирал ладони от клейких вишневых пятен, потом ни слова не говоря направился к тому месту, откуда из-под широкой решетки поднимался и стелился по крыше легкий кисловатый дымок.