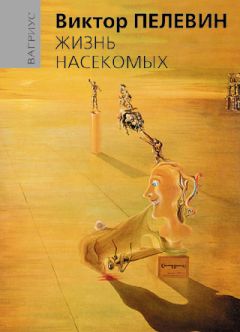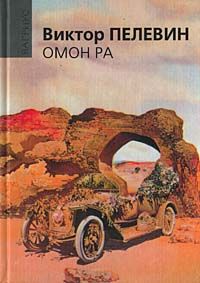Виктор Пелевин - Ананасная вода для прекрасной дамы
А вот Шмыга действительно был антисемитом. Причем таким, который вдобавок еще и не следит за своим языком. Вернее, если говорить точно, он был антисемитом в том смысле, в каком им является любой мизантроп. Но если мы интересуемся исключительно тем узким вопросом, как он относился к евреям, так я честно скажу — очень очень плохо.
Он мог сказать что-то на первый взгляд невинное, а на самом деле ядовитое, с двойным дном:
— Мы понимаем, Семен, эту вечную дилемму, которая стоит перед любым культурным и образованным евреем, где бы он ни жил — в Москве или Нью-Йорке. Это двойная идентичность, когда человек даже самому себе не может однозначно ответить на вопрос, кто он в первую очередь — патриот Израиля или патриот США… Но мы, блять, постараемся поставить тебя в такие условия работы, чтобы эта проблема тебя не мучила…
И все с улыбочкой, с хохотком, как будто это такой легкий светский разговор. Еще он любил рассказать какой-нибудь гадкий еврейский анекдот — „для настроения“, как он говорил. Причем по чекистскому инстинкту старался выбирать такие моменты, когда рядом никого не было.
— Слышь, Семен… Ты, это… Знаешь, чем отличается Сохнут от Аушвица? Сохнут — это место, где богатые евреи платят за бедных. А Аушвиц — это место, где бедные евреи платят за богатых, гы-гы-гы… Ну ладно, посмеялись и хватит. Давай за работу…
Русских, впрочем, он тоже презирал. Один раз он высказался вообще очень интересно:
— Если брать в массе, русский народ сегодня полное говно и быдло. Зато русские чекисты доказали, что эволюционно они стоят даже выше евреев…
Вот какая каша была у человека в голове. И он ведь действительно в глубине души так думал. Что чекисты эволюционируют отдельно от своего народа. Ну что ж, в добрый, как говорится, путь. Дворяне тоже так думали в девятнадцатом веке. И балакали между собой по-французски, пока кухаркины дети не поставили их к стенке. А виноваты в результате оказались, как вы думаете, кто? Правильно.
В общем, заглянуть в темную душу генерала Шмыги я даже не пытался — хотя подозреваю, что там меня встретило бы близкое жестяное дно, покрытое военным камуфляжем „под бездну“.
Зато с Добросветом можно было общаться часами. Довольно скоро он перестал изъясняться тем слащаво-неискренним языком, которым читал свою вступительную лекцию, и стал говорить то, что действительно думал, не стесняясь в выражениях.
Иные из его изречений я даже записывал.
Вот что он сказал, например, об информационном обществе — если, конечно, это было об информационном обществе:
— Монархия, Семен, оставила нам собор Василия Блаженного. А нынешний уклад оставит в лучшем случае бложок Василия Заборного. И то не факт, потому что сервер, на котором он рассупонился, могут в любой момент увезти в прокуратуру на простом мотоцикле с коляской.
А вот что — о российской филологической интеллигенции:
— Любое место, где эти говноеды проведут больше десяти минут, превращается в помойку истории. У этих властелинов слова не хватает яиц даже на то, чтобы честно описать наблюдаемую действительность, куда уж там осмыслить. Все, что они могут — это копипастить чужой протухший умняк, на который давно забили даже те французские пидара, которые когда-то его выдумали… Нет, вру. Еще они могут сосчитать, сколько раз в предложении встречается слово „который“…
Слово „умняк“ было у него одним из любимых, и вообще он любил необычные слова.
Но хоть он постоянно критиковал интеллигенцию, многие ее заблуждения он вполне разделял. Он, например, думал, что мы, евреи, обкроили русских во время перестройки и приватизации, потому что работали слаженной дружной стаей, пока все остальные только оглушенно разводили руками. Я, конечно, не вступал с ним в спор на эту тему. Если он не видел перед собой живого опровержения этой теории, зачем бы я стал что-то такое объяснять.
Но сейчас, будь он жив, я бы все-таки кое-что ему сказал.
Мы, евреи, ко всем людям относимся хорошо. Но друг к другу мы относимся чуть лучше, чем к другим — а учитывая, что эти другие много раз пытались сжить нас со свету, это вполне объяснимо и простительно. Некоторые называют это круговой порукой. Мама, я не могу. Получается, круговая порука — это когда у вас нет национальной традиции собираться толпой вокруг любого талантливого соплеменника и бить его колами, пока он не сдохнет в пыли под забором, чтобы вокруг снова остались одни пьяные урядники, лопухи и свиньи.
Некоторые представители других народов как бы говорят — раз мы так поступаем со своими лучшими сынами, вы тоже должны так делать со своими, иначе это нечестно и дает вам односторонние конкурентные преимущества. Что я могу сказать? Если б мы слушали таких советов, мы вряд ли дожили бы до Сочинской олимпиады.
И Добросвет вот не дожил. Потому что был талантлив, честен и умен. А вот Шмыга… Но не буду забегать вперед.
Кстати, на тот маловероятный случай, если у Шмыги когда-нибудь будут делать обыск. Я хорошо знаю, где надо искать его главные тайны, банковские пароли и номера счетов. В мешке с грязным бельем, среди липких носков. В главном такие люди не меняются никогда.
10Меня всегда интересовало, как возникают на земле эти огромные трещины, в которые проваливаются целые городские кварталы при землетрясениях. Ведь такая пропасть не может появиться за одну секунду — она должна с чего-то начаться. Сперва, наверно, возникает совсем тонкая трещинка — но она проходит сразу по всему: по асфальту, бетонным бордюрам тротуара, заборам, стенам домов и даже стеклам.
Я очень хорошо запомнил день, когда в нашем проекте появилась такая трещинка. Никто еще не знал, что вскоре она превратится в бездонную пропасть, но тонкая как паутинка линия уже перечеркнула и мою депривационную камеру, и всю загородную базу, где мы ловили души человеков своей сложной снастью.
Буш вышел на связь в подавленном настроении. Такое в последнее время бывало с ним все чаще, и я, как обычно, начал с отповеди саддукеям и фарисеям из либеральных СМИ, которая всегда встречала радостный отклик в его душе. Но в этот раз обычного эмоционального контакта между нами не возникло, и я понял — его угнетает что-то серьезное.
Я не ошибся. Дослушав меня до конца, он пробормотал несколько раз „алилуйя“, а потом вдруг воззвал ко мне с невиданной прежде решимостью.
— Господи, — зашептал он горячо, — услышь меня, Господи… Я сделал все, что велели мне твои ангелы. Я начал войну в Ираке, хоть цель твоего промысла неясна мне до сих пор и мне было очень трудно убедить даже нашего друга Тони, не говоря уже обо всех остальных. Я увяз в Афганской войне, которой не выиграл пока ни один полководец. И еще по велению твоих ангелов я сделал много другого, что кажется моему ограниченному уму безумным и гибельным для Америки. Скажи, Господи, не кара ли это за совершенный моей страной грех?
— Какой грех, Джорджайя?
Буш сбился на пристыженный шепот:
— Я говорю, Господи, о комнате Гагтунгра.
— Что это за комната?
— Разве ты не знаешь, Господи? Неужели ты не всеведущ?
Я опять почувствовал капли пота на лбу.
— Джорджайя, — ответил я мягко, — я знаю об этой комнате постольку, поскольку о ней знаешь ты, мой возлюбленный сын, ибо ты и я — одно. Твои глаза — это мои глаза. Именно в этом мое всемогущество, ибо я сам ограничил свою волю волей сынов моих, и мое знание кончается там, где начинается знание тех, кого я возлюбил. Ибо сколь велика твоя вера в меня, столь же велика моя вера в тебя, о Джорджайя. Поведай же мне о том, что терзает твое сердце, и я облегчутвою печаль.
Ответом было молчание.
Оно длилось очень долго, и я уже начал всерьез опасаться, что вот-вот откроется люк, и в луче света появится рука Шмыги с никелированным „Макаровым“. И тут до меня долетело долгожданное:
— Алилуйя! Алилуйя! Алилуйя!
А потом Буш принялся говорить.
То, что он рассказал, пришлось выуживать из него по частям, и это заняло не один сеанс и не два. Он и сам знал не все — ему пришлось затребовать особо секретные материалы из спецархива ЦРУ. Поэтому я сразу перейду к окончательной картине, сложившейся, когда мы соединили кусочки его исповедальной головоломки с фактами советского прошлого. Дело в том, что Буш совершенно не знал культурной предыстории той тайны, которую поведал мне в исповеди, и вскоре мы представляли себе ситуацию даже лучше, чем он сам.
Я уже говорил, что во время моей первоначальной подготовки мне зачитывали длинные куски из духовидца Даниила Андреева, сына известного писателя начала века.
Как и положено всякому русскому духовидцу, Андреев-младший провел лучшую часть жизни в тюрьме. В ней он создал грандиозную духовную эпопею „Роза Мира“, где переписал историю творения и грехопадения в терминах, более понятных современникам Штейнера и Троцкого. Кое-какие сентенции Андреева о Боге я помнил. Но все дело было, как оказалось, в том, что он писал о Сатане, которого называл „Гагтунгр“.