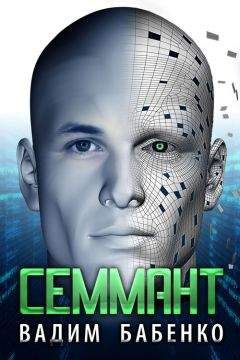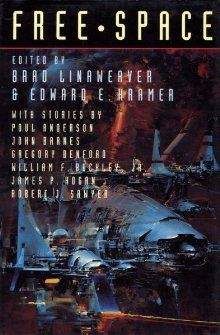Вадим Бабенко - Черный Пеликан
Я застыл посреди номера и всплеснул руками – я глупец, я теряю время! Хватит шептать бессмысленно, нужно засучить рукава и исполнять, что хотел. У тебя есть план – вот и действуй по своему плану. Кое-что придется изменить на ходу – ничего, изменим, перестроим, подправим…
Я бросился к столу, схватил конверт и написал на нем крупно: «Пиолину для Гиббса. От Витуса. Просьба передать». Ничего, ничего, еще посмотрим. Убит наповал… Как бы не так. Официального подтверждения не было, сами признались. У них была лодка, любому ясно, кто понимает…
Я выгреб из ящика всю припасенную там бумагу и вывел вверху первого листа: «Уважаемый Гиббс!» Потом отступил немного, написал первую фразу: «Я и сейчас хорошо помню свое появление в городе М.» – подумал с минуту и стал строчить, не поднимая головы, описывая все, все, что я хотел и не хотел сказать ему, в чем мог и не мог, умел и не умел признаться. Это вам не в мусорную корзину, приговаривал я про себя, это я не порву. У меня есть адресат, и я отправлю адресату, я передам, и пусть оно ждет хоть целую вечность. Это дождется, я верю, что дождется, а те, кто не верят, они мне не указ.
Торопясь и чуть сбиваясь с одного на другое, я излагал хронологию своего секрета, ничего не приукрашивая и не стараясь казаться дальновиднее, чем я был, хоть сейчас, задним числом, многое выглядело до смешного наивно. Умолчал я лишь про Веру, все ж остальное – и карьера, и солнечное утро, и решение, принятое столь внезапно, и конечно черный кольт, с которым пришлось бесславно расстаться – все нашло свое место и свой черед. Упомянул я и про игру Джан, и даже Любомир Любомиров высунул нос из-за угла, а потом, когда повествование вновь перенеслось в город М., добравшись до нашего совместного похода, то я будто опять услыхал шорох ящериц в песке и крик океанской совы, представил воочию ландшафты ночных дюн и бесконечный угрюмый берег. События наплывали и строились в замкнутые ряды, образы и картины, краски и звуки были послушны мне теперь – я владел ими и направлял по местам властной рукой, будто глядя с той высоты, где ничто уже не мешает глазу.
Наконец, пришло время вспомнить о самом главном, если не сказать странном или страшном, и тут я помедлил минуту или две с нетерпеливо замершим в воздухе пером, но затем написал лишь: «…и вы, Гиббс, сами знаете, о чем я», – почему-то понимая твердо, что не только само название, не произносимое вслух, но даже и стыдливый эвфемизм выйдут здесь неуместны. Он и впрямь знал сам, и я знал сам; ни мне, ни ему не было дела до посторонних суждений, и не стоило об этом говорить, хоть я и добавил одну ненужную фразу в горячечном стремлении объяснить необъяснимое.
«Я знаю теперь – во мне есть нечто; я со всеми вместе гнал его прочь. Я был недостоин себя, но стал другим», – написал я и тут же тщательно зачеркнул написанное, и даже скомкал для верности весь лист, возвещавший об остатках слабости или скрытого позерства, о которых всегда свидетельствуют лишние слова. «Я добрел до деревни на юге и был болен, но потом оправился вполне», – сообщил я сухо на новой странице, избегая сантиментов, перечитал, остался доволен и поспешил дальше, вновь набирая и набирая темп, будто скатываясь с крутого холма. Перо скрипело и царапало бумагу, плечи и шея давно затекли и ныли, болела закушенная губа, но я писал, не замечая ничего, лишь следя, словно со стороны, как в цветном калейдоскопе мельтешат, сменяя друг друга, лица и ландшафты, человеческие фигурки и интерьеры замкнутых пространств. Там мелькали и менялись местами Паркеры и доктор Немо, две Марии и картины Аричибальда, Миа, Джереми, круглый, как мячик… Это было забавно, я играл в них, как в игрушки, а потом вновь объявился Юлиан, уже воочию, а не за кадром, и я поведал о нем скупо, как и подобало, намекнув лишь, а не выпалив напрямую, что, где и как с ним сталось. «Я не знаю, что сделалось с ним, – признавался я, – и не узнаю никогда. В том быть может и прелесть, в том быть может и секрет. А вы, Гиббс…»
Я задумался над последней фразой, потом ухмыльнулся и оставил ее как есть, оборвав на многоточии – милосердном символе всех возможных окончаний. Их, всевозможные, лучше додумать после – не раз и не два, переиначивая и представляя по-иному – а он, если захочет, сам разыщет меня, чтобы договориться о самом верном.
Я потянулся и протер слезящиеся глаза, потом аккуратно собрал листки, разбросанные по столу, с трудом засунул их в конверт и заклеил, не перечитывая. На улице уже светало – ночь подходила к концу. Что-то погрохатывало невдалеке, и в самом здании зарождались предутренние звуки – изредка шумели трубы, доносились торопливые шаги горничных, какие-то позвякиванья и скрипы. Я сидел, размышляя, не уехать ли прямо сейчас, до рассвета, потом решил прилечь на минуту, не раздеваясь, и мгновенно уснул крепчайшим сном, в котором не было ничего – ни образов, ни мыслей.
Разбудили меня солнечные лучи – было поздно, я проспал все утро. Конверт белел на столе, плащ и неразобранная сумка так и валялись в углу со вчерашнего вечера. «Ехать! Ехать!» – скомандовал я, вскакивая поспешно и чувствуя себя бодрым, как никогда. Ничто не держало здесь больше, мне нечего было делать в этом городе, дорога и верная машина манили и торопили в путь. Я спустился вниз, быстро расправился с обильным завтраком и вскоре уже стоял у регистрационной стойки с ключами и конвертом в руках.
«Это для Пиолина, – холодно сказал я портье, протягивая конверт. – Он ведь по-прежнему заведует тут у вас?»
«Да, да», – проговорил тот, скользнул взглядом по крупным печатным буквам и поднял на меня глаза. «Новости полицейские изволили слышать?» – осведомился он негромко, помолчав секунду или две, и неуверенно моргнул.
«Слышал, слышал, – сказал я еще суше. – Вы конверт передайте, как там указано, а о прочем не беспокойтесь».
«Будет сделано», – наклонил голову портье, и я кивнул ему в ответ, потом расплатился и через минуту уже катил по полупустому проспекту в направлении единственной асфальтированной дороги, уводящей из города М. вглубь материка.
Было легко, хоть и была печаль. Здания неаккуратной архитектуры, провожая меня прочь, поглядывали всеми своими окнами без интереса, но с ответной грустью. Мы знали, что больше не увидим друг друга, но сохраняли вполне беспечный вид, будто следуя правилу или привычке. Я добился здесь всего, чего хотел, и город оставил в себе все, что не желал отдавать, упрятав под надежный замок. Мы были квиты, и все же печаль не отпускала – быть может оттого лишь, что дни ушли безвозвратно, я стал старше, хоть и на ничтожный миг, и каждый фасад обветшал еще на малость, добавив потертостей и трещин. «Держитесь», – шептал я порой, обращаясь к молчаливым домам, и дергал рычаг скоростей чуть резче, чем нужно, но в остальном не отличался от сотен других приезжих, завершивших недолгий визит и спешащих прочь.
Спешить, правда, мне было некуда, и дальнейший маршрут все еще представлял собой загадку. Пока я просто ехал наугад, имея в виду не «куда», но лишь «откуда», не желая задаваться никакими целями. Осознание отказа от стремлений уже есть немалое стремление само по себе – мне хватало на настоящий момент. Что-то блеснуло сбоку – ну да, позолоченная арка, памятник сами знаем кому – значит город уже позади. Немного жаль, но, впрочем, уже почти и нет. Вот громада недостроенного Мемориала, из которой торчат железные прутья, а сразу за нею – покосившийся щит с традиционным пожеланием. Что ж, и вам того же, хоть вы и не едете никуда.
Краем глаза я заметил человеческую фигуру на обочине справа, сразу за дорожным щитом. Пожилой уже мужчина стоял, приподняв руку и голосуя мчащимся мимо машинам. Повинуясь внезапному импульсу, я резко затормозил, съехал с дорожной полосы и дал задний ход, подскакивая на обочинных рытвинах и ругаясь сквозь зубы на себя самого за необъяснимую блажь.
Голосующий, казалось, был удивлен до чрезвычайности. Он нерешительно подошел, помедлил, прежде чем заглянуть в кабину, а потом проговорил резким высоким голосом с некоторым даже вызовом: – «Мне далеко – миль двадцать отсюда, если не больше, хоть и прямо по этой дороге. И мне нечем платить, у меня украли бумажник». Закончив фразу, которая удалась ему с трудом, он тут же отвел взгляд и не увидел, как я кивком пригласил его внутрь. «Ох, простите, добрый день, я с этого должен был начать», – добавил он вдруг, спохватившись и снова глянув на меня своими странными круглыми глазами без ресниц.
«Садитесь, садитесь, – сказал я ему, стараясь звучать приветливо и сдерживая ухмылку, – мне по пути».
Незнакомец еще поглядел недоверчиво, потом повторил: – «Но мне нечем платить», – и, видя, что я не реагирую, пожал плечами и уселся наконец на пассажирское сиденье. Я заметил, что у него не было поклажи, и одет он был слишком легко для этого времени года.
«Вы не подумайте, – сказал он сердито через несколько минут, отвернувшись от меня и глядя в окно. – Я бы с удовольствием заплатил вам или, скорее, просто воспользовался автобусом, но у меня действительно украли и нет просто ни гроша».