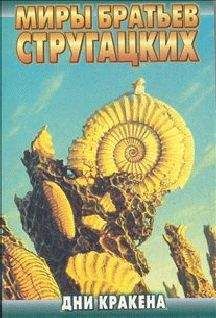Аркадий Стругацкий - Том 11. Неопубликованное. Публицистика
Впоследствии все мы, естественно, подружились. Борька Трунов стал вообще моим главным дружком — у него я учился небрежно ругаться матом, элегантно плевать сквозь зубы и выливать сусликов. Я был принят в русские и с презрением, хотя и без настоящей неприязни, глядел на единственного подлинного еврея в классе, — тоже Борю, тоже эвакуированного, тоже городского, но совсем уже жалкого заморыша, сморщенного какого-то, перекошенного и не способного правильно сказать «кукуруза». Я глядел на него с презрением, но иногда какой-то холодок вдруг пробирал меня до костей, какое-то странное чувство — то ли вины, то ли стыда — возникало, и непонятно было, что делать с этим холодком и с этим стыдом, и хотелось, чтобы этого жалкого Бори не было бы в поле зрения вообще, — мир без него был гораздо проще, яснее, беззаботнее, а значит — лучше.
Не помню, встречался ли я в Ташле с антисемитизмом взрослых. Видимо, нет. Но с меня вполне хватило и школьного антисемитизма. Это, правда, был какой-то путаный антисемитизм. Во-первых, мальчишки совершенно искренне считали, что все евреи живут в городе, из чего делали восхищающий своей логичностью вывод: все, кто из города, — евреи. Во-вторых, они совершенно не могли связно объяснить мне, почему еврей — это плохо. Они и сами этого толком не знали. Самое убедительное, что я услышал от них, было: евреи Христа распяли. Ну и что? А ничего. Гады они, и все. К сожалению, я не помню в деталях этих наших этнологических бесед (на сеновале, в пристройке высоченного Труновского дома, и на базу у них же, на соломе, под ласковым весенним солнышком). Помню только, что я ни в коем случае не оспаривал основного тезиса — все евреи гады, — я только страстно хотел понять, почему это так?
В четвертом классе (1943/44) я учился в Москве. Об этом времени у меня почему-то не осталось никаких воспоминаний. Кроме одного. …Какие-то жуткие задворки. Над головой грохочут поезда метро — там проходит надземный участок. Мы с приятелем роемся в гигантской горе металлических колпачков от пивных и лимонадных бутылок — почему-то здесь их скопилось неописуемо много, и мы чувствуем себя сказочными богачами (совершенно не помню, как тогда использовались в нашей компании эти колпачки). И вот мой приятель вдруг объявляет мне (с нехорошей усмешкой), что я — еврей. Я потрясен. Это — неспровоцированное, совершенно неожиданное и необъяснимое нападение из-за угла. «Почему?» — спрашиваю я тупо. Колпачки более не интересуют меня — я в нокдауне. «Потому что Стругацкий! — объявляет мне мой приятель. — Раз кончается на „ский“, — значит еврей». Я молчу, потеряв дар речи. Такого удара я не ожидал. Оказывается, сама фамилия моя несет в себе отраву. Потом меня осеняет: «А как же Маяковский?» — спрашиваю я в отчаянии. «Еврей!» — отвечает дружок решительно, но я вижу, что эта решительность — показная. «А Островский? — наседаю я, приободрившись. (Я начитанный мальчик.) — А другой Островский? Который пьесы писал?..»
Не помню, чем закончился этот замечательный диалог. Вполне допускаю, что мне удалось пошатнуть твердокаменные убеждения моего оппонента. Но мне не удалось убедить самого себя: отныне я знал, что скрыть свое окаянство мне не удастся уже никогда — я был на «ский».
Уже в Ленинграде в пятом или шестом классе я обнаружил вдруг, что у меня есть отчество. Вдруг пошла по классу мода — писать на тетрадке: «…по литературе ученика 6-а класса Батурина Сергея Андреевича». Но я-то был не Андреевич. И не Петрович. Я был Натанович. Раньше мне и в голову не вступало, что я Натанович. И вот пришло, видно, время об этом задуматься.
В нашей школе антисемитизм никогда не поднимался до сколько-нибудь опасного градуса. Это был обычный, умеренный, вялотекущий антисемитизм. Однако же, быть евреем не рекомендовалось. Это был грех. Он ни в какое сравнение, разумеется, не шел с грехом ябедничества или, скажем, чистоплюйства любого рода. Но и ничего хорошего в еврействе не было и быть не могло. По своей отвратительности еврей уступал, конечно, гогочке, который осмелился явиться в класс в новой куртке, но заметно превосходил, скажем, нормального битого отличника. Новую куртку нетрудно было превратить в старую — этим с азартом занимался весь класс, клеймо же еврея было несмываемо. Это клеймо делало человека парией. Навсегда. И я стал Николаевичем.
«…по арифметике… ученика 6-а класса Стругацкого Бориса Николаевича…» Мне кажется, я испытывал стыд, выводя это на тетрадке. Но страх был сильнее стыда. Не страх быть побитым или оскорбленным, нет, — страх оказаться изгоем, человеком второго сорта.
Потом мама моя обнаружила мое предательство. Бедная моя мама! Страшно и представить себе, что должна она была почувствовать тогда — какой ужас, какое отвращение, какую беспомощность! Особенно, если вспомнить, что она любила моего отца всю свою жизнь, и всю жизнь оставалась верна его памяти. Что она вышла замуж за Натана Стругацкого вопреки воле своего отца, человека крутого и по-старинному твердокаменного — он не колеблясь проклял свою любимую младшенькую Сашеньку самым страшным проклятьем, узнав, что убежала она из дома без родительского благословения, да еще с большевиком, да еще, самое страшное, — с евреем!..
Я плохо помню, что говорила мне тогда мама. Кажется, она рассказывала, каким замечательным человеком был мой отец; как хорошо, что он был именно евреем — евреи замечательные люди, умные, добрые, честные; какое это красивое имя — Натан! — какое оно необычное, редкое, не то что Николай, который встречается на каждом шагу… Бедная моя мама.
Иногда мне кажется, что именно в этот вечер — сорок пять лет назад — я получил спасительно болезненную и неописуемо горькую прививку от предательства. На всю жизнь.
И кажется мне, что именно тогда дал я себе клятву (хотя, конечно, не давал я ее себе ни тогда, ни позже), которая звучала (могла бы звучать) примерно так: «Я — русский, я всю свою жизнь прожил в России, и умру в России, и я не знаю никакого языка, кроме русского, и никакая культура не близка мне так, как русская, но. Но! Если кто-то назовет меня евреем, имея намерение оскорбить, унизить, запугать, я приму это имя и буду носить его с честью, пока это будет в человеческих силах».
Боюсь, последняя фраза прозвучала у меня излишне красиво. Если у читателя возникнет то же ощущение, я готов принести ему свои извинения, но фразу, впрочем, ни вычеркивать, ни редактировать я при этом не намерен. Ибо она выражает некую суть, некую непреложную норму отношения порядочного человека к непорядочности. К сожалению, образ жизни нашей на протяжении многих десятилетий был таков, что поступки элементарно порядочные выглядели вызывающе красиво: слишком часто поступить порядочно означало — совершить маленький (а иногда и не маленький) подвиг. И когда моя невестка Елена Ильинична Стругацкая (урожденная Ошанина) в лицо разбушевавшемуся антисемиту, поддерживаемому глухим одобрительным ропотом подмосковной электрички, объявляет себя еврейкой (потомственная дворянка с родословной, уходящей в глубь истории, в доромановские времена) — это маленький подвиг, нисколько не меньший, чем легендарная прогулка датского короля с желтой звездой на рукаве (под неприязненными взглядами гебитс- и штадскомиссаров оккупационных войск).
Когда сейчас, спустя полвека, я пытаюсь вспомнить и проанализировать свое тогдашнее, детское, отношение к еврейскому вопросу, я нахожу его, это свое отношение, вполне рептильным. Мне не нравилось считаться евреем. Я не хотел быть евреем. Я ничего не имел против евреев, — точно так же, как ничего я не имел против армян, русских, татар и белорусов, — но я не чувствовал себя евреем, я не находил в себе ничего еврейского, и мне казалось несправедливым расплачиваться за грех, в коем я не был повинен. Все вокруг были русские, и я хотел быть как все.
Кто придумал эту блистательную формулировку: «Чувствуете ли вы себя евреем?» Впервые я услышал о ней от своего старшего брата, когда он с отвращением и ненавистью рассказывал мне, как в конце 40-х на одном из комсомольских офицерских собраний ихний главный политрук допытывался у него прилюдно: «Но вы, все-таки, чувствуете себя евреем, лейтенант, или нет?»
Дилемма тут была такая: либо ты говоришь, что чувствуешь себя евреем, и тогда моментально оказываешься весь в дерьме, ибо в анкетах повсюду стоит у тебя «русский», а также и потому, что самолично, при всех, расписываешься в своей второсортности; либо ты говоришь правду — «нет, не чувствую» — и опять же оказываешься в том же самом дерьме, ибо ты Натанович, и ты на «ский», и ты выходишь натуральным отступником и предателем…
Я, между прочим, и до сих пор не знаю, что это, все-таки, значит — «чувствовать себя евреем». У меня сложилось определенное впечатление (в том числе и из разговоров со многими евреями), что «чувствовать себя евреем» — значит: жить в ожидании, что тебя в любой момент могут оскорбить и унизить без всякой на то причины или повода.