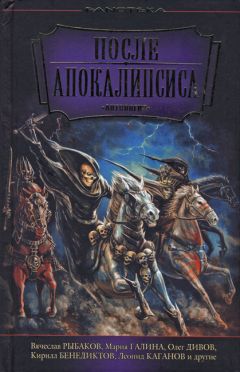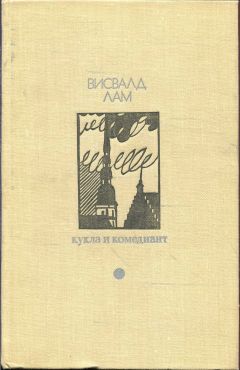Виктор Колупаев - Сократ сибирских Афин
— Ты мне всю жизнь испортил! — уже кричала Даздраперма. — Изверг! Мракобес! Импотент несчастный!
— Я не импотент, — пытался оправдаться Межеумович, но этим только значительно усугубил ситуацию.
Даздраперма бросилась в рукопашную.
— Спасибо, кандидат сексуалистических наук, — вмешался в разборку славный Агатий и даже встал и даже сдержанно захлопал в ладоши.
И его поддержали. Зал разразился аплодисментами. Доцент Даздраперма недоумевающе посмотрела на уходящие в бесконечность ряды любителей материалистической физики и вообще жизни, что-то поняла, разулыбалась, зааплодировала сама себе и свалилась со сцены, в аккурат, на меня.
— На Персию! — орали мы-все.
И тогда от избытка давящей на меня сверху чужой потной материи, а также собственных мыслей и чувств я тоже упал.
Глава двадцать вторая
Оно навалилось на меня внезапно. Обрушилось, смяло, засосало в какую-то узкую горловину, выбросило в бесконечное одиночество и в то же время смотрело на меня мириадами глаз. Или это я всеми глазами мира смотрел на самого себя? Оно не испытывало ко мне никаких чувство: ни зла, ни жалости, ни доброжелательности. Полное безразличие. Не знаю даже, испытывало ли оно вообще какие-либо чувства и осознавало ли себя. Я знал, что как только оно захватит меня целиком, я исчезну. Исчезнет все, не только мое тело, но и мысли, и память, и душа. А оно будет существовать вечно, бесстрастно и одиноко-всеобще.
Я терял самого себя, но еще понимал, что этого нельзя допустить. Здесь не было добра и зла, не было самого здесь или там, моего и твоего, верха и низа, света и тьмы, внутреннего и внешнего. Оно было предельно неопределенно, бесструктурно и всеобще. Ничего, кроме ужаса не испытывал я. И даже самого желания вернуться в человеческий мир не существовало. Лишь одна мысль или обрывок мысли: не потерять самого себя, — задерживала меня в этом мире. Хотя, кто я такой, я уже не знал.
Не потерять себя!
Оно было или недочеловеческим, или сверхчеловеческим. Но это я понимал, если мне удавалось вернуться. Чей-то голос звал меня, уверенно и спокойно. И я возвращался, я открывал узкую дверь и возвращался.
Я толкнул дверь своего тайного сарайчика, но она не поддавалась, словно с другой стороны ее замело снегом.
И тогда я осмотрелся. Да, это был тот самый сарайчик моих растрепанных мыслей, в котором я однажды уже пытался навести порядок. Грубо сколоченный из досок стол возле небольшого окна, лавка. Груд мусора, вроде бы, поубавилось. Из всех щелей дуло. А на одной из стен покачивалась от сквозняков небольшая картина. Я подошел и рассмотрел ее.
Ликург, царь Волкотварь, преследовал молодого Диониса. Видать, здесь была изображена сцена из жизни бога еще до нашего с ним похода по обитаемому миру.
Я еще помнил, что Дионису суждено было родится трижды, прежде чем он, как духовное существо, смог одарить людей на земле. В Гадесе Персефона закладывала основу духовного человека, рождая его там в “огне”, Семела зачинала его душевно от молнии, Зевс, властитель ясного света, хозяин нашего мира, укрывал спасенное Афиной сердце в своем теле и рождал мальчика в третий раз. Так Дионис вошел в земной человеческий мир. Но царь “Волкотварь, не терпящий бесполезного развития, проникся к нему враждебностью. В доме морской богини Фетиды мальчик исподволь созревает, чтобы стать взрослым бородатым мужем.
Я понял, что и сам, подобно Дионису, подолгу и в строгой тайне лелею то, что уже определенно живет в моей душе и растет, но только вот никак не может выйти на свет.
Я толкал и толкал дверь, пока не образовалась узкая щель. Пронзительный холодный воздух тут же завыл и заулюлюкал. Через эту щель я увидел снег, увидел Дельфы и Парнас, хотя сквозь метущиеся волны снега ничего нельзя было рассмотреть.
Я вышел.
И снова не стало ни верха, ни низа. И бесконечноглазое оно смотрело на меня моими же глазами, бесстрастно и равнодушно. Беззащитная фигурка одинокого человека утопала в снегу. Бессмысленные видения, которые создавало оно, проносились передо мной. Или это я сам создавал свой бред, а оно лишь ничем не противоречило мне, соглашаясь со всем, не противодействуя и не помогая. Я то рвался куда-то, то равнодушно смотрел на то, как проваливаюсь в бездну. Ужас и радость, страх и счастье, равнодушие и участие здесь были одним и тем же. И я и оно взирали на то, как я теряю себя. У меня уже не было мыслей о спасении, я хотел лишь одного: умереть самим собой.
Отчаянно рванулся я вперед. Оно оформилось в знакомые ливни холодного, колющего и режущего снега. Я снова был самим собой. Но тут же голова у меня снова пошла кругом. Закрутилось все, завертелось. Показалось, что вот еще чуть-чуть и я что-то припомню. И странно сменялось все перед моими глазами. Какие-то пульты управления, каменные развалины, бесконечные коридоры, мониторы компьютеров.
Я очнулся. Метель кружила вокруг.
Я, наконец, снова сумел приоткрыть дверь настолько, что мог просунуть в щель голову. Борьба с дверью словно окрылила меня, я почувствовал какое-то странное освобождение, словно стал всем миром, а весь мир стал только одним мною.
Если идти из Дельф на вершину Парнаса, то стадиях в семидесяти есть медная статуя и отсюда начинается подъем в пещеру Корикион, который легче сделать человеку пешком, без поклажи, чем верхом на муле или коне. Пещера Корикион превосходит по величине все другие пещеры, в ней всегда светло и можно ходить без светильников. Эта пещера находится под особым покровительством нимф и Пана.
В пещере Корикион исступленные менады за одну ночь сжигали великое количество ладана. Под защитою дыма они отыскивали в корзине для просеивания зерна трижды рожденного младенца и наблюдали его быстрый рост. Кружась в хороводе, вакханки будили младенца в корзинке. Бог поднимался на ноги, танцуя, исчезал в дыму и, время от времени появляясь, демонстрировал ступени своего становления, пока не превратился в безбородого юношу.
Тут снаружи вошел царь Волкотварь со свитой вооруженных пиками волков-пособников, чтобы прогнать его. Менады с дикими воплями пытались отогнать их, чтобы богиня Фетида смогла дать Дионису прибежище в море.
В этих девушек молниями били наполненные огнем стебли тростника, и от ударов они зачинали плод небесной жизни. От молнии каждая из них становилась зачинающей матерью бога, Семелой.
— Я Диониса зову, оглашенного криками “эйа”! — пели они. -
Перворожденный и трижды рожденный, двусущий владыка,
Неизреченный, неистовый, тайный, двухвидный, двурогий.
В пышном плюще, быколикий, “эвой” восклицающий, бурный,
Мяса вкуситель кровавого, чистый, трехлетний, увитый
Лозами, полными гроздьев, — тебя, Персефоны с Зевсом
Неизреченное ложе, о бог Евбулей, породило.
Вместе с пестуньями, что опоясаны дивно, внемли же
Гласу молитвы моей и повей, беспорочный и сладкий,
Ты, о блаженный, ко мне благосклонное сердце имея!
Пока девушки наверху в пещере Пана пели и наблюдали за преображением Диониса, внизу в дельфийском храме поддерживали торжество жрицы Диониса, принося тайную жертву в храме Аполлона. Происходило это в заднем, обычно недоступном ни для кого храме. Там, рядом с пупом Земли стоял треножник пифии, там находилась могила убитого Аполлоном змея Пифона и урна с прахом мертвого Диониса. Первый Дионис — сын Персефоны — принимал там как умерший жертву из воды и пресных лепешек с медом.
Два бога владели храмом по очереди: Дионис со своими оргиями — властелин зимы; Аполлон, которому ясными, чистыми звуками поют пеан, правит летом.
Увидеть в полночь солнце в сияющем блеске — такова была цель таинств.
Жрицы страстно и чуть жутковато пели:
— В божественном безумье ты, Дионис, вторгся,
Факелами потрясая, в цветущую укромность Сибирской Эллады:
Эвое, ие, ие-вакхос, ие, ие-пеан!
Народ Сибирской Эллады призывает тебя:
Ты по нраву тем, кто видит священные празднества.
Ты отворяешь смертным в их стараниях гавань мира.
Какая-то девушка летела по направлению к вершине Парнаса, ловко используя при этом всякие вихри, порывы ветра и прочие воздушные течения, недостатка в которых сегодня не ощущалось. Ее светящаяся, огненная фигурка, стройная и стремительная, неслась среди снежной карусели, рассекая воздух с едва заметным свистом, слышным только ей самой да еще мне.