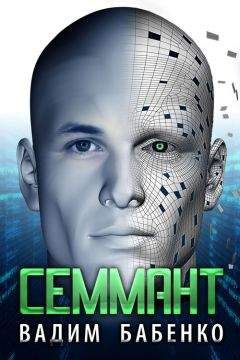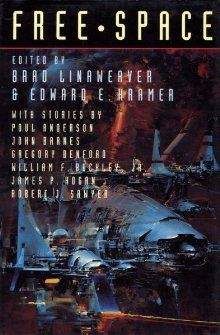Вадим Бабенко - Черный Пеликан
«Взаправду правда, – ответил я жестко. – Чего это ты задергался? Боишься?»
Нет, он не боялся – по крайней мере, не боялся меня. Я хорошо понимал его в ту минуту – лучше, чем кто-нибудь другой. Я знал теперь, что стрелять не придется – он сам загнал себя в угол, из которого нет другого выхода, кроме любезно приоткрытой двери. С собственным заблуждением не спорят по доброй воле и свою слепоту оберегают до последней капли. Пусть внутри кричат криком неведомые голоса, предупреждая и вразумляя каждый на свой лад, пусть неизвестность, приоткрывшись вдруг сполохом непроглядной тьмы, сбивает с толку и путает мысли, но в скопище химер, особенно с непривычки, не сыскать разумных доводов, способных объяснить хоть что-то себе и другим или оправдать нерешительность и сомненье. Конечно, если бы у него под рукой оказалась своя Стелла, то все могло б получиться по-иному, но Стеллы не было, была лишь Вера, оставшаяся далеко за скобками и не попадающая в расчет. Для отказа не было повода; для того, чтобы решиться и отступить, недоставало наивной прыти, хоть разглядывая меня, он наверняка представил многое и запутался в предчувствиях – но не станешь же выставлять себя на смех из-за прочитанного в глазах…
«Иди, Юлиан», – сказал я еще раз.
«Хорошо», – ответил он просто, кивнул мне с вымученной улыбкой и пошел прочь, не оглядываясь назад.
Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за очередным береговым изгибом – смотрел и видел, как покидает меня мой главный враг, давно наверное переставший быть врагом, если напрямоту, как он уходит, устремляясь навстречу неведомому, непонятному, сулящему быть может куда больше, чем он способен постичь. Я завидовал ему лютой завистью, готовый поменяться с ним местами сию же секунду, чувствуя себя старше и мудрее на века, бессильней и неприкаянней, опустошеннее и грубее. Вдали снова вдруг показались странные точки, теперь их было больше и двигались они быстрее. Я бросил в их сторону один лишь короткий взгляд и упал на песок, зарывшись в него поспешно руками и лицом. Это и есть победа, подумалось еще, а секрета больше нет, он отжил свое. Потом ветер швырнул горсть песка мне в волосы, я натянул на голову куртку, ограждаясь от света, и заставил все мысли исчезнуть враз, представив себя самого бесформенным сгустком пустоты с шероховатой мягкой оболочкой. «Иди, Юлиан», – шепнул напоследок кто-то внутри сгустка, прежде чем исчезнуть и умолкнуть, а потом уже не слышалось ничего совсем, и даже шум волн пропал в беззвучии вместе с завыванием ветра, лишь песок изредка шуршал по плотной ткани, словно фантазия, изгнанная на волю, которую больше не пускают обратно.
Глава 15
Когда я поднялся, отряхиваясь и озираясь, день уже клонился к вечеру. Юлиана пропал и след, ни точек, ни грозных знаков тоже не было в поле зрения. Ничто не нарушало безлюдья, волны мерно накатывали на берег, и ветер посвистывал заунывно, гоня мелкую рябь вдаль, к горизонту. Было холодно, я ощутимо промерз и, стараясь согреться, пошел по мокрому песку торопливым шагом, иногда даже переходя на бег.
Мысли мелькали обрывками и кружились беспорядочно, как клочки разорванных писем. Я не был рад и не был горд, знал, что «свершение» произошло, но понимал твердо, что это не меняет ничего – ни во мне, ни вокруг. Лишь в Юлиане могут быть перемены, и они будут, о да, но мне-то что до них, мне что за дело? Никакой выгоды, и даже не удастся подсмотреть продолжение – ни подсмотреть, ни расспросить кого-нибудь потом. На что я рассчитывал вообще?..
Тут же невидимые голоса шептали, ободряя: все еще впереди. Не напрасно? – спрашивал я их, но они замолкали, и я договаривал за них: нет-нет, отнюдь – но уже с какой-то вялостью, без напора. Может нет, а может и да – как же трудно в чем-то разобраться самому, разобраться одному. Я даже готов был выругать себя за этакую бестолковость, за неумение разложить все по полочкам в мгновение ока, но тут же чувствовал, что злости в душе нет ни капли, а есть там усталость и какая-то новая уязвимость, а еще – ощущение незавершенности, как бывает, когда точку пытаются ставить слишком рано или комкают финал, не исполнив требуемое до конца. Отчего это? – гадал я и морщился, не находя ответа, а потом даже повернулся к океану, достал из сумки свой верный, но так и не пригодившийся кольт и зашвырнул его далеко в волны, словно пытаясь воздвигнуть еще один барьер между собой и былым секретом, но и это не помогло – кольта сразу же стало жаль, а ощущение преждевременно поставленной точки так и бередило сознание, будто незаслуженная обида.
Назад в деревню я добрался уже в полной темноте. На заставе все прошло гладко, да я и не ждал от Фантика никаких неожиданностей – ему теперь явно было не до меня.
«Один? – спросил он с удивлением, вглядываясь мне в лицо и дальше, за меня, словно пытаясь рассмотреть какие-то ускользающие тени, потом скривил рот и открыл обе калитки, махнув рукой: – Ладно, проходи».
«Ясно, что пройду, – буркнул я для острастки, – ты тут начальника из себя не строй. Где собака-то?»
«Сбежала, – пожал Фантик плечами. – Как Каспар уехал, так и делась куда-то. А куда тут сбежишь? Так что оставили меня даже и без собаки…» – завел он прежнюю шарманку, и я поспешил прочь, равнодушный к его жалобам.
Дом Марии темнел угловатым силуэтом, сквозь ставни на кухне пробивался свет. Я потоптался около в некотором сомнении, но потом признал, что ехать ночью вдоль дюн по едва знакомой дороге у меня нет ни малейшей охоты, и решительно постучал.
Мария открыла не скоро и не обрадовалась мне ничуть. «Приехал, – констатировала она с неудовольствием и посторонилась, пропуская внутрь. – На ночь глядя приехал и стучит, будто все его только ждать и должны. То уедет, то приедет, никакого покоя…»
«Не ворчи, Мария, – попросил я. – Мне только переночевать, я заплачу конечно. Надеюсь, у тебя нет гостей – я никого сейчас не хочу видеть».
Мне и вправду была невыносима мысль о любом человеческом обществе. Почти любом – к Марии это не относилось, с ней было легко всегда, тем более, что она скоро оттаяла и накормила меня яичницей с картошкой и салом, рассказав, пока я ел, что Паркеры видно болеют или обиделись на нее за что-то и перестали заходить, а вот Арчибальд, которого она называла «твой пьяница горький», напротив забредал аж два раза и справлялся обо мне, на что ему, понятно, было строго указано, что обращается он не по адресу. Я слушал и кивал, изредка похмыкивая в ответ, но, право же, деревенские новости не трогали меня вовсе. Я думал о странных точках на фоне свинцовых туч и о недруге, все более невнятном, как фигурка, кочующая с холста на холст, пока ее не станет совсем уже невозможно узнать.
«Разбуди меня пораньше, Мария, мне нужно ехать чуть свет», – сказал я ей, поблагодарив за яичницу, и она повела меня, вздыхая, в ту самую комнату, где я прожил памятные недели. Я бросился в постель и мгновенно уснул, а утром с аппетитом съел груду горячих лепешек и уехал прочь из деревни, так и не повстречав никого к большому своему облегчению. Мария наотрез отказалась брать с меня деньги, но я успел незаметно сунуть одну из бумажек под старый подсвечник в гостиной.
Дорога к городу оказалась нетрудной – я уверенно сворачивал на развилках, размышляя о том, что запросто начертил бы подробную схему местности для любого, кто пожелает. Таковых, однако, не имелось в наличии – разве что Джереми мог бы проявить интерес, подумал я мстительно, тут же о нем позабыв. Алчный приказчик остался в прошлом, как случайный вспомогательный инструмент, а я не хотел ворошить никакое прошлое – мне не было теперь дела до потраченных денег или бесследно и необъяснимо исчезнувшего проводника, и я лишь посетовал мельком, что никогда уже больше не захочу остановиться в «Аркаде», в которой, что ни говори, мне было комфортно вполне.
Мысль об «Аркаде» вернула меня к Юлиану и нашему с ним последнему ужину, а потом и к прочим деталям исполненного замысла – вплоть до расставания с любимым револьвером. Я вдруг почувствовал еще острее, что план не доведен до конца, и никакие уговоры не помогают увериться в обратном. Я искал в себе освобождения и не находил, зная подспудно, что необходим еще один шаг, еще какое-то действо для того, чтобы содеянное оказалось наконец завершено. Раздумья эти не давали покоя, и я поддался было им и впал даже в некоторую растерянность, но потом в голове сверкнуло яркой вспышкой: ну конечно же – Гиббс! Как я мог позабыть, все ж было решено еще позавчера. Расскажу и тогда осмыслю, разделаюсь и с плеч долой, повторял я себе, не умея объяснить, почему это должно быть именно так, но и не испытывая сомнений, понимая отчего-то, что секрет должен перестать быть секретом, и тогда все прояснится каким-то своевольным образом.
На душе полегчало, сознание, словно устав от извечного бега по кругу, споткнулось и застыло на месте, осматриваясь несколько заполошно. Наверное, это было ненадолго, но что с того – едва ли надолго бывает хоть что-то, даже и отметина на щеке рано или поздно может обратиться подлогом, как бы кто ни пытался оценивать лишь по ней. Оценивать – и ошибаться; ошибаться – и попадать впросак; я-то знаю теперь, что попасть впросак может всякий, иные очень даже легко и с готовностью неодолимой. Знаю и готов не закрывать глаза, хоть и чувствую, что хочется покоя, и еще – хочется все бросить и заняться другим, может быть даже уехать отсюда прямо сейчас, как из давно осточертевшего места, но я не поддаюсь порыву и прислушиваюсь еще и еще, и заглядываю поглубже в непроглядную тьму – что там, кто там, о чем вы? Как это говорил Пиолин – вместо X находишь Y и только тогда понимаешь, что тебе был нужен Z… И еще он подмечал, помнится – думаешь, что ищешь Юлиана, а найдешь какого-нибудь Гиббса – и вот, так оно и получается, и тогда выходит, что этот самый Z и есть я сам. Что ж, оказаться таковым у меня вполне достанет сил – Z так Z, могу быть и ZZ, еще лучше звучит, и даже ZZZ, выглядит совсем уж солидно, и кстати, если о Пиолине, так ему и карты в руки, почему бы не заявиться к нему в гостиницу и не поискать Гиббса прямо там? Очень все сходится – и ресторан, и начало, и конец, вот только сам Пиолин, конечно, злодей из злодеев, но боюсь ли я его? – Пожалуй нет, не боюсь.