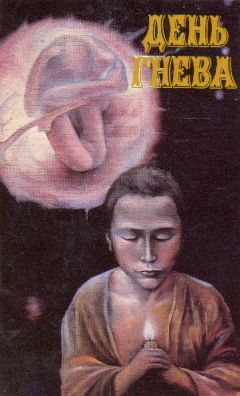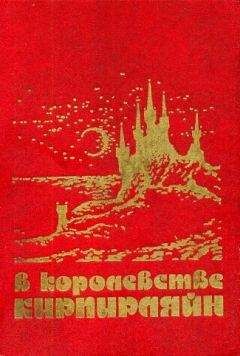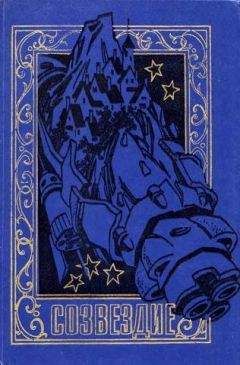Андрей Зинчук - Общий район
— Дальше не нужно. Завтра вечером я буду тебя ждать. — И толкнул ее в толпу, окончательно отрезав от Луки. И Ника отстала, и перед ней сомкнулись. Мастер же вновь, как электрический механизм, заработал локтями и устремился вперед, за Лукой.
Лука шел не оглядываясь, продираясь через толпу, как через заросли, как во время большой охоты, и впереди у него была желанная дичь, какой еще ни у кого никогда не было. Вокруг него шумели, спорили, сбивались в кучи, становились в очереди. В полутьме мелькали возбужденные, разгоряченные лица — маленькие фотографии, вспыхивающие на мгновение в сетчатке его глаз. Еще недавно он и сам устраивался в такие очереди, поближе к помосту, и так же спорил из-за места, частенько дрался, бил кого-то невидимого, иногда его били самого. Но теперь он только криво усмехался, поймав взглядом одну из таких шумных сценок и, не останавливаясь ни на мгновение, продвигался вперед.
— Лука! — позвал через головы толпы мастер, вдруг почувствовав, что дальше не продраться, что впереди него непроходимый заслон. Но Лука даже не обернулся. Мастер же оглядел спины стоящих перед собой и среди них увидел давешнего следователя.
— Все, — сказал тот. — Спасибо.
— Но!.. — в отчаянии попытался возразить мастер.
— Достаточно! — жестко повторил Феликс.
Мастер открыл рот, хотел сказать что-то еще, но только послушно сморгнул и встал в очередь вместе со всеми. А следователь нырнул в толпу и начал пробираться туда, куда направлялся Лука.
До помоста оставалось уже совсем немного. Уже летела оттуда музыка: новый президент готовился к выступлению. Перед глазами Феликса все время маячила светло-серая спина Луки. От напряжения на следователя вдруг накатило вдохновение, которого он тщетно искал совсем недавно, в душе что-то открылось, и все вдруг стало ясно и просто, как бывает с нами только в детстве, и он понял то, о чем будет писать завтра, чтобы одержать победу в объективном соревновании районов: “Президент. Выстрел. Пауза. Рев толпы. Маленькое убийство, самое последнее из убийств, которое все равно ничего не решит, потому что выберут нового, так не все ли равно — кого?” Феликс похлопал себя по карманам кителя и вспомнил, что не захватил переносной интегратор, который бы позволил ему сейчас разобраться в происходящем, во всех извивах этих страстных, но ужасно путаных мыслей. (“Итак, не все ли равно, кто он, этот маленький безвестный герой, имя которому — народ?”) И все это он, Феликс, это он первый раскусил и понял до конца. И даже Патриций, Пат, его знакомый по училищу… “Да здравствуют незаметные маленькие, которые встанут над традициями и законами во имя великой правды конца!” — Феликс на мгновение приостановил бег мысли и подумал, что и в самом деле вперед должны идти сильные и решительные, самые сильные и самые решительные — самые… самцы, и только для них одних — убеждение, страстное и нелепое, как жизнь! А для всех остальных, попроще, — Основной закон. А если потом и в самом деле поставят памятник, то президент, наверное, должен быть совсем маленьким, Лука покрупней, а самым большим он, Феликс — безвестный герой, безымянный и скромный, как булыжник!..
Следователь оглянулся вокруг, на тех, которые наверняка не поймут этого его великого и отчаянного поступка — ничтожными и жалкими показались они ему, как те убогие животные, которые копошатся во тьме и прахе мусорников. Неожиданно он увидел прямо перед собой огромные глаза Пата. В темноте они казались еще больше. Не было в них обычной злой мути.
— Остановись, Феликс! — приказал Пат.
Следователь еще раз огляделся по сторонам: уже началось. Задвигались очереди, застонали от сладострастия первые счастливцы: они получали отпущенное им с помоста и, качаясь, отходили в сторону, неся в пригоршнях и боясь расплескать голубое пламя своего недолгого счастья. Бежать Феликсу было некуда. Сейчас Пат отнимет у него Луку, и тогда… Президент начал выступление. Первых слов своей песни Феликс не разобрал: их скомкал звучатель и так, в комке, пронес через всю площадь.
— Чего молчишь? — спросил Пат, чертыхнулся, нагнулся и вытащил из-под ног сунувшуюся туда случайную игрушку: это был маленький пластиковый человечек с огромными грустными глазами. Он открывал рот, вертел головой, пищал и улыбался.
— Это мой! — сказал Пат, указывая на выцарапанную на спине человечка корявую букву “П”. — Сегодня сделал его на второй работе и пометил, думал: попадется вечером или нет? Попался! — Пат с наслаждением откручивал человечку голову. — И еще спрятал туда кое-что. Сюрприз! — Через образовавшуюся дыру в туловище человечка он вылил себе в рот несколько бурых капель какого-то напитка. — На, попробуй! — Пат протянул человечка Феликсу.
Тот только глянул на обвисшие руки человечка, на выкрасившиеся зубы Патриция, его полыхнувшие в темноте глаза, и понял: неспроста он здесь, знает! Лука к этому времени уже стоял у президентского помоста. Видно было, что он задрал голову вверх и смотрел на то, как новый президент раскачивался в такт куплетам песни. Сзади президента по фоннику моталась длинная тень. Президент был молод, красив, весел. Он стоял очень близко к звучателю и был так хорош собой, у него были такое ровные белые зубы и такие ясные глаза, что на мельчайшее число Лука, похоже, в него просто влюбился…
Вы проходите мимо.
Ветер между нами проносит пыль.
Ветер в наши души сыплет песок…
“Бумс! Бумс!” — на площадь ступил великан в больших резиновых ботах. А прямо за спиной Луки к этому времени уже стоял Феликс с баллончиком яда в руке и радовался тому, что сумел провести Пата, поразив его в солнечное сплетение и скользнув мимо него к помосту. “Почему он не стреляет?” — тосковал Феликс и жарко дышал Луке в затылок.
Щелкнул взводимый курок. Лука поднял руку с пистолетом на уровень глаз, помедлил. На него уже начали обращать внимание: слишком выставился он со своим оружием. Феликс разглядывал седые волоски у Луки на затылке, над воротником плаща и думал о том, как предусмотрительно он поступил, отпустив этого безумца на волю… Еще мгновение… Еще… Вот сейчас!.. Вот!.. Внезапно у Луки задрожало предплечье. Еще немного, и тогда уже не выйдет ничего!.. Феликсу, вместе с бывшим подследственным смотревшему на президента через прицел, мучительно хотелось самому спустить курок.
— Лука… — шепнул он первое слово завтрашнего стихотворения, к этому времени окончательно сложившегося в его душе. — Лука!..
Лука вздрогнул, обернулся и, увидев перед собой ночного следователя, от неожиданности спустил курок. Грянул выстрел. Последнее, что слышал Феликс, были слова сочиненной им песни, рвущейся на волю из звучателя: “В толпе врагов не разглядеть друга”. Он посмотрел вокруг пустыми, уже мертвыми и ничего не видящими глазами и упал. В груди его, как страшный цветок, раскрылась огромная рана, и из нее на асфальт потекла кровь. Феликс не застонал, не заплакал, почувствовав приближение смерти, но только удивился, что все получилось так просто и глупо. Потом он, как большой ребенок перед сном, подтянул к животу ноги и застыл. Лука с недоумением разглядывал то свои руки, то лежащее перед ним тело мертвого следователя. Пистолет он бросил и беспомощно озирался по сторонам: у следователя неестественно завернулась одна штанина, и это было так непоправимо, что в толпе кто-то истерически рассмеялся.
Пахло горелым порохом. А воспетый следователем ветер уносил этот запах с площади, где по неумолимой логике событий пересеклись дороги Луки и Феликса, преступника и его жертвы.
— В толпе врагов не разглядеть друга!.. — механически повторил Лука последние слова ночной песни. Он стоял, окруженный отшатнувшимися от него соплеменниками, чье сочувствие и любовь еще недавно так страстно хотел привлечь. А к Луке уже спешил президент: лицо его озаряла все та же ясная улыбка, живой, он спускался по приставной, почти вертикальной лестничке, чуть касаясь ступенек спиной. Президент приблизился к Луке, посмотрел на мертвого следователя, на старинный огромный пистолет, валявшийся рядом, оценил взглядом собравшихся. Потом, похлопав Луку по плечу, не то спросил, не то приказал:
— Общий район?!
Приговора Лука не услышал. Он так же, как и следователь перед смертью, закрыл глаза и тут же увидел пальцы: свой давний бред. И за ними что-то белое, чего до этого момента никогда разглядеть не мог: эти пальцы и этот халат были пальцами и халатом хирурга, врача, помогшего ему появиться на этот неласковый и, в сущности, очень неинтересный свет.
Эпилог
Летун быстро перемещался, рассекая стратосферу узкими, приспособленными для таких полетов крыльями. Воздух был прозрачен и чист до такой степени, что, казалось, неподвижно стоял за иллюминаторами. Всего в салоне летуна набралось шесть человек, включая охрану. Прочие кресла оставались свободными.
Одним из пассажиров был мужчина средних лет: грузный, с великолепной седой шевелюрой, в старом сером плаще. Другим — мужчина помоложе, в строгом черном костюме, загорелый, с фигурой атлета. По проходу между креслами прошла стюардесса, предлагая летящим мороженое и прохладительные напитки. Полет происходил на огромной высоте. Несмотря на это, в выпуклый иллюминатор можно было высовывать голову и разглядывать все то, что проплывало внизу, под острыми крыльями: там тянулся бесконечный и однообразный пейзаж, плоскость, испещренная бугорками, плотно прилегающими друг к другу вроде огромных пчелиных сот или таких же огромных шапито. Шапито тянулись до самого горизонта, где сливались в сплошную линию. Сверху их освещало белое, будто выхолощенное, солнце.
“Глоток воды, сигарета… На что-то это все очень похоже! — размышлял седовласый, следя за действиями стюардессы. — А потом раскроется под твоими ногами пол, и ты вместе с креслом или же без него провалишься к чертовой матери вниз и будешь лететь в пустоте с выпученными от ужаса глазами…” — Седовласый отогнал от глаз видение казни и, стараясь не привлекать внимания атлета, глянул себе под ноги. Потом отстегнул ремни и поднялся. При этом атлет оживился:
— В сортир?