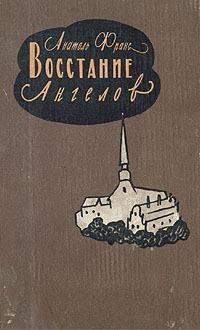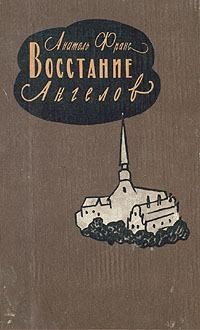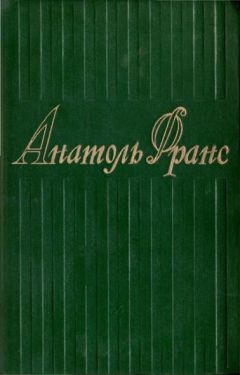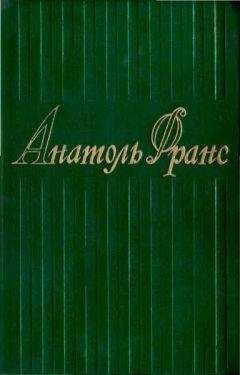Анатоль Франс - Восстание ангелов другой перевод
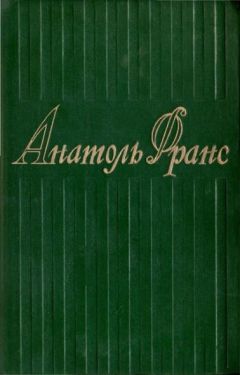
Обзор книги Анатоль Франс - Восстание ангелов другой перевод
Анатоль Франс
Восстание ангелов
ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ
Глава первая,
которая в немногих строках излагает историю одной французской семьи с 1789 года до наших дней
Особняк д’Эспарвье под сенью св. Сульпиция высится своими тремя строгими этажами над зеленым, обомшелым двором и садом, который из года в год теснят все более высокие, все ближе подступающие здания; но два громадных каштана в глубине все еще вздымают ввысь свои поблекшие вершины. Здесь с 1825 по 1857 год жил великий человек этой семьи, Александр Бюссар д’Эспарвье, вице-президент государственного совета при Июльском правительстве, член Академии нравственных и политических наук, автор трехтомного in octavo «Трактата о гражданских и религиозных установлениях народов», труда, к сожалению, не законченного.
Этот прославленный теоретик либеральной монархии оставил наследником своего рода, своего состояния и славы Фульгенция-Адольфа Бюссара д’Эспарвье, и тот, став сенатором при Второй империи {1}, значительно увеличил свои владения тем, что скупил участки, через которые должен был пройти проспект Императрицы, а сверх того произнес замечательную речь в защиту светской власти пап.
У Фульгенция было три сына. Старший, Марк-Александр, поступил на военную службу и сделал блестящую карьеру; он умел хорошо говорить. Второй, Гаэтан, не проявил никаких особенных талантов. Он жил большей частью в деревне, охотился, разводил лошадей, занимался музыкой и живописью. Третий, Ренэ, с детства был предназначен в блюстители закона, но, получив должность помощника прокурора, он вышел в отставку, чтобы не участвовать в применении декретов Ферри о конгрегациях {2}; позднее, когда в правление президента Фальера возвратились времена Деция и Диоклетиана {3}, он посвятил все свои знания и все усердие служению гонимой церкви.
Со времени Конкордата 1801 года {4} до последних лет Второй империи все д’Эспарвье, дабы подать пример, аккуратно посещали церковь. Скептики в душе, они считали религию средством, которое способствует управлению. Марк и Ренэ были первыми в роду, проявившими истинное благочестие. Генерал, еще будучи полковником, посвятил свой полк «Сердцу Иисусову» {5} и исполнял обряды с таким рвением, которое выделяло его даже среди военных, а ведь известно, что набожность, дщерь неба, избрала своим любимым местопребыванием на земле сердца генералов Третьей республики {6}. И у веры есть свои причуды. При старом режиме вера была достоянием народа, но отнюдь не дворянства и не просвещенной буржуазии. Во времена Первой империи вся армия сверху донизу была заражена безбожием. В наши дни народ не верит ни во что. Буржуазия старается верить, и иногда ей это удается, как удалось Марку и Ренэ д’Эспарвье. Напротив, брат их, сельский дворянин Гаэтан, не преуспел в вере. Он был агностиком, как говорят в свете, чтобы не употреблять неприятного слова «вольнодумец». И он открыто объявлял себя агностиком, вопреки доброму обычаю скрывать такие вещи. В наше время существует столько способов верить и не верить, что грядущим историкам будет стоить немалого труда разобраться в этой путанице. Но ведь и мы не лучше разбираемся в верованиях эпохи Симмаха и Амвросия {7}.
Ревностный христианин, Ренэ д’Эспарвье был глубоко привержен тем либеральным идеям, которые достались ему от предков как священное наследие. Вынужденный бороться с республикой, безбожной и якобинской, он тем не менее считал себя республиканцем. Он требовал независимости и суверенных прав для церкви во имя свободы. В годы ожесточенных дебатов об отделении церкви от государства {8} и споров о конфискации церковного имущества соборы епископов и собрания верующих происходили у него в доме.
И когда в большой зеленой гостиной собирались наиболее влиятельные вожди католической партии — прелаты, генералы, сенаторы, депутаты, журналисты,— и души всех присутствующих с умилительной покорностью или вынужденным послушанием устремлялись к Риму, а г-н д’Эспарвье, облокотясь на мраморную доску камина, противопоставлял гражданскому праву каноническое и красноречиво изливал свое негодование по поводу ограбления французской церкви,— два старинных портрета, два лика, недвижные и немые, взирали на это злободневное собрание. Направо от камина портрет работы Давида — Ромэн Бюссар, землепашец из Эспарвье, в куртке и канифасовых штанах, с лицом грубым, хитрым, слегка насмешливым,— у него были основания смеяться: старик положил начало благосостоянию семьи, скупая церковные угодья. Налево — портрет кисти Жерара — сын этого мужика, в парадном мундире, увешанный орденами, барон Эмиль Бюссар д’Эспарвье, префект империи и первый советник министра юстиции при Карле X, скончавшийся в 1837 году церковным старостой своего прихода со стишками из вольтеровской «Девственницы» {9} на устах.
Ренэ д’Эспарвье в 1888 году женился на Марии-Антуанетте Купель, дочери барона Купеля, горнозаводчика в Бленвилле (Верхняя Луара); с 1903 года г-жа д’Эспарвье возглавляет общество христианских матерей. В 1908 году эти примерные супруги выдали замуж старшую дочь; остальные трое детей — два сына и дочь — тогда еще жили с ними.
Младший сын — шестилетний Леон — помещался в комнате рядом с апартаментами матери и сестры Берты. Старший — Морис — занимал маленький, в две комнаты, павильон в глубине сада. Молодой человек наслаждался там полной свободой, благодаря чему жизнь в семье казалась ему сносной. Это был довольно красивый юноша, элегантный, без излишней манерности; легкая улыбка, чуть приподнимавшая уголок его губ, была не лишена приятности.
В двадцать пять лет Морис обладал мудростью Екклезиаста {10}. Усомнившись в том, чтобы человек мог получить какую-либо пользу от своих земных трудов, он никогда не обременял себя ни малейшим усилием. С самых ранних лет этот юный представитель знатного рода успешно избегал ученья и, так и не отведав университетской премудрости, сумел стать доктором прав и адвокатом судебной палаты.
Он никого не защищал и не выступал ни в каких процессах. Он ничего не знал и не хотел ничего знать, избегая перегружать свои природные способности, милую ограниченность коих он старался щадить, ибо счастливый инстинкт подсказал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо.
Блага христианского воспитания Морис, по выражению аббата Патуйля, получил свыше. С детства он у себя дома видел примеры христианского благочестия, а когда, окончив коллеж, он был зачислен на юридический факультет, то нашел у родительского очага ученость докторов, добродетель духовников и стойкость порядочных женщин. Соприкоснувшись с общественной и политической жизнью как раз во время великого гонения на французскую церковь {11}, он не пропустил ни одной манифестации католической молодежи; в дни конфискаций он возводил баррикады у себя в приходе и вместе с приятелями выпряг лошадей архиепископа, когда того изгнали из дворца. Однако во всех этих обстоятельствах он проявлял весьма умеренное рвение; никто не видел, чтобы он красовался в первых рядах этого героического воинства, призывая солдат к славному неповиновению, или швырял отбросами в казначейских досмотрщиков и осыпал их бранью.
Он выполнял свой долг — не более того; и если во время великого паломничества 1911 года он отличился в Лурде {12}, перенося расслабленных, то существует подозрение, что он делал это с целью понравиться г-же де ла Вердельер, которая любит сильных мужчин. Аббат Патуйль, друг семьи и глубокий знаток души человеческой, понимал, что Мориса отнюдь не привлекает мученический венец. Он упрекал его в недостатке рвения и драл за уши, называя бездельником. Но как бы то ни было Морис был верующим. Среди заблуждений юности вера его оставалась нетронутой, ибо он к ней не прикасался. Он никогда не пытался вникнуть ни в один из ее догматов. Ему не приходило в голову задумываться над нравственными принципами, господствовавшими в кругу, к которому он принадлежал. Он принимал их такими, какими их ему преподносили. Поэтому при всех обстоятельствах он выказывал себя вполне порядочным человеком, что было бы выше его сил, если бы он стал размышлять об основах, на которых зиждятся нравы. Он был вспыльчив, горяч, обладал чувством чести и тщательно развивал его в себе. Он не был ни тщеславен, ни заносчив. Как большинство французов, он не любил тратить деньги; если бы женщины не заставляли его делать им подарки, он сам не стал бы ничего им дарить. Он полагал, что презирает женщин, а на самом деле обожал их, но чувственность его была столь непосредственной, что он и не подозревал о ней. Единственное, чего никто не угадывал в нем, да и сам он не знал за собою, хотя об этом и можно было догадаться по теплому, влажному сиянию, вспыхивавшему иногда в глубине его красивых светло-карих глаз,— это что он обладал нежной душой, способной к дружбе; а в общем, в обыденной жизни и в своих отношениях с людьми это был довольно пустой малый.