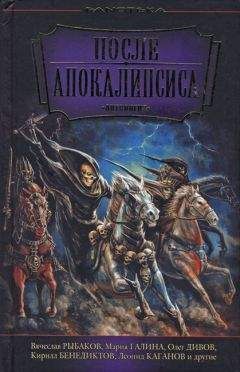Ника Батхен - Книгоноша

Обзор книги Ника Батхен - Книгоноша
Ника Батхен
Книгоноша
Я сидела одна в квартире. Дочки были у бабушки. Срочный заказ по истории бутербродов улетел в «Нашу кухню» вчера, предстояло придумать три маски для жирных волос, украсить ими статью о весенних происках шевелюры — и спи-отдыхай. За окошком на профиле новостройки играло солнце, под кроватью, притулившись у батареи, чернохвостая кошка пела песню о вечной любви, — туда не долетали тряпки и швабра тоже не доставала. Я стучала по клавишам, в кухоньке пахло кофе и неудачной яичницей, из колонок играл Дассен. Над душой висел призрак нового свитера — в тридцать лет женщина может сделать себе подарок… Настроение намечалось отличное.
Звонок в дверь удивил — я никого не ждала. Наверное, предлагают картошку или собирают подписи против строительства новой автодороги под окнами. Кто бы спорил — деревья жалко. Я взяла ручку и вышла в длинный розовый коридор. Вид удручал — надо бы хоть полы вымыть — пять квартир, ни в одной не желают убирать за соседями.
— Кто там?
— Старые книги, — скрипучий, высокий, какой-то привзвизгивающий голос был незнаком. Но чужого консьержка бы не пропустила. А ну-ка…
Тот, кто стоял за дверью, с первого взгляда походил на бомжа. Кустистая, длинная диккенсовская борода, острый взгляд синих глаз с хитрой искрой безуминки, седые патлы до плеч, большое пальто с оттопыренными карманами, штопаные — честное слово — штопаные ботинки с аккуратными заплатами на носах. Два тюка, длинный сверток у ног. И запах… Кисловатый душок стариковского тела, затхлый чих старой тряпки, на редкость вонючий табак и бумага, бумага… От старика пахло библиотекой — картоном и клеем, книжной пылью, страницами, переплетами, тонкой гравюрой и золоченым тиснением старой кожи.
— Хорошо, покажите. Что почем? — я видала таких букинистов на развалах у метро. Вымирающий вид, но порой за копейки можно выцепить милую редкость вроде томика Блока тридцатых годов или истории цирка. Мне давно не хватало хорошего Шолом-Алейхема — чем черт не шутит…
— А в квартиру пустить, мадам? За стол усадить, чаем с сахаром угостить старика? Нет, так дела не делают.
Борода качнулась, незваный гость наклонился поднять свой скарб. Похоже, и вправду чокнутый… А ну его — что мне, в самом деле чашки чая для бродяги жалко? Красть у меня нечего, придушить не придушит — от старости руки трясутся.
— Заходите пожалуйста, уважаемый. Прошу вас, — я прошла вперед и открыла облезлую дверь.
Тапочек у меня не было. Но старик их и не спросил. Прошлепал точне-хонько в кухню, уселся на мой диван и блаженно вытянул ноги. Пока я кипятила чайник и заваривала мой лучший чай с бергамотом, гость, казалось, дремал, даже похрапывал. Чуть подумав, я нарезала хлеба с сыром, достала засахаренное варенье и банку меда. Старик потребовал блюдце и невыносимо долго пил чай. Прихлебывал, дул на кипяток, макал в него сахар, придерживая кусочки грязными пальцами, ломтик за ломтиком жевал хлеб, аккуратно стряхивал крошки в ладонь и бросал в рот. Кошка вылезла из-под дивана в порыве нежности, старик небрежно погладил ее по отставленному крестцу и вернулся к своему лакомству. Он чавкал, хлюпал, шумно вздыхал над блюдцем… Я начала злиться. Работа стояла, время шло, на улице светило солнце, в магазине висел некупленный свитер, а я на собственной кухне караулила вонючего старика, которого сама же пустила в дом. Наконец он наелся. Отер бороду рукавом, чинно перекрестился:
— Благодарствуем вас, мадам! А давеча вы мне рыбу-фиш по-жидовски обещали за миньятюру… Должок за вами, да-с.
Под заскорузлыми, узловатыми пальцами разошелся подмокший тюк — я с трудом узнала бабий платок и какую-то парчовую скатерть. Старик запустил руку внутрь:
— Поглядите-ка для аппетиту.
Я не глядя схватила книжку и обмерла. Темно-синий тисненый томик, на переплете лавровая ветка, бумага желтоватая и прозрачная, словно слоновая кость. Жуковский. 1862 год. Петербург…
— Сколько?!
Довольный старик хихикнул:
— Погодите, мадам… Я вас разорю нынче, мне ведь на книгах не спать, спина уж не та но Москве шляться.
Новый том. Тре… чего? Третдьяковский. «Сочинения и переводы». 1752 год. Петербург. С одобрения Ее Императорского… В доме есть триста долларов. Их не хватит.
— Может у вас и Карамзин есть? — невинным тоном спросила я.
— Под Рождество французу продал. Переплет червяком траченый, сухаревцы страниц надергали, кочерыжка гнилая, подставное собрание вышло… А ему что — все равно ж по православному ни бельмеса. Любитель — вшивый китель…
Завершив тираду невнятной бранью, старик достал табакерку, сунул понюшку в нос и смачно чихнул. Я заметила вензель на крышке, потянулась взглянуть. Он тут же сунул в карман игрушку.
— Нет уж мадам, непродажное. Еще прадед от матушки-государыни за усердную службу сей дар получил. Вот-ка взгляните лучше…
Хрупкие страницы — не бумага, похоже пергамент. Пятна сажи, края кое-где обгорели, здесь бурое — точно, кровь, а там травинка присохла. Какие-то метки на полях, писано старославянским. Чему нас в институте учили?…Ярославна рано плачет, в Путивле, на забрале, аркучи… Я подавилась неприличным словом. Единственный экземпляр сгорел в библиотеке Мусина-Пушкина во время пожара Москвы в 1812 году.
В ответ на невысказанный вопрос старик льстиво улыбнулся, его голос будто сразу стал слаще:
— Сохранили, мадам. Верный раб под рубахой вынес. В сокровищнице хранили, в резной шкатулке, от отца к сыну передавали, да вот проигрался наследничек, на толкучее продавать вынес, а я тут-как-тут. Вернейшее дело, как родной матушке уступлю, не пожалуетесь!
Себя продать на Тверской что ли? Долгонько на эту книжку работать придется. Отложить, а потом в Ленинку звякнуть? Я машинально перебирала пальцами страницы, прикасалась к сухому и нежному… Старик следил за мной из-под полуприкрытых век, растирая в пальцах случайную крошку вонючего табака. Верить. Бяшете. Через «я».
Я встала и грохнула об пол блюдце.
— Ты кому Лазаря заправляешь, подзаборник, конь старый! На грош пятачков прикупить решил? Вошь свою за блоху продавай! Креста на тебе нет…
Старик заржал. Со вкусом, тряся заплеванной бородой и стуча себя по коленкам… Мне захотелось выдрать ему бесстыжие зенки — меня надуть вздумал, хрен сухаревский, душегуб прохладный…
— Так и на вас, мадам, креста нет, — наконец выдохнул старик. Сам налил стылого кипятку в чашку, отхлебнул и прокашлялся, — сдавайте товар, уж найдем на него дурака.
Я протянула назад фальшивку. Старик развернул второй тюк.
— Не обессудьте, новье, да еще и крыса отобедать изволила — по пятидесяти копеек будет.
Пачка была увесистая. Гнедич. История искусств. Первый том, пятый, шестой. По переплетам и вправду прошлись мелкие зубки. Но внутри все на месте. Я зарылась в репродукции Рафаэля, в желтоватые гравюры безупречного качества. Помню их с детства — с библиотеки князей Белосельских, где изволила заседать моя матушка. Что на свете может быть восхитительней бледного глянца дорогой старинной бумаги?..
Пока я любовалась, старик пробежал но квартире, как любопытный хорек. Понюхал зачитанного Соловьева, удивленно поцокал языком на собрание Ленина, брезгливо потряс пестрый журнал. Переплетенная по месяцам «Правда» ему приглянулась — я шкурой чуяла, что старик был бы рад предложить почти настоящую цену — у него как раз завелся покупатель на книжку. Кукиш ему, а не мой раритет.
Чуть подумав, я отодвинула Гнедича. Старик явственно огорчился.
— Еще батюшка ваш, царство ему небесное, дело со мной не гнушался иметь… А вы манкируете. Уж не знаю, право, что еще вам предложить.
Он наклонился завязать тюк. Из кармана пальто вывалились две книжки. Я схватилась за первую. Он побледнел.
— Вы не подумайте чего, так пустяк, студентик занес, а я взял по жадности… Хотите вам уступлю? «Андрей Кожухов». Нет, увольте меня от мути народовольцев, тем паче, что книжка-то запрещенная. А вторая?
Томик Лермонтова. Издание Маркса. 1894 год. Красный простенький переплет. На форзаце — линотипный автограф. «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня, черноглазую девицу, черногривого коня».
На лице старика появилась презрительная улыбка:
— Барахло ведь, дешевка. Зачем оно вам, мадам? Хотите, я вам на той неделе оригинал принесу — список «Смерти поэта» собственноручный… Ну ладно, тридцать копеек. По знакомству — за двадцать пять.
— Подождите минутку, любезный, чайку пока еще выкушайте…
Я кошкой метнулась в комнату. На подносе вокруг вьетнамского хотея болталась куча металлической мелочи всех народов и стран — для приманки живых денег. Среди прочего были и российские монеты. Петровский медный пятак — не то. Екатерининский — тоже. Две копейки медью. Пятнадцать серебром 1907 год, прелесть. Еще копейка. И еще…