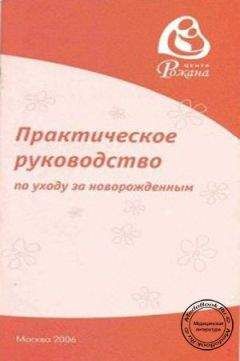Симона Вилар - Ведьма и тьма
По ночам она опять твердила заклинания, и через какое-то время заметила, что стала спокойнее засыпать. Утром опять приходил молоденький Еводий, заботливый и внимательный. Он подкармливал раненную им женщину. А та ела с аппетитом, даже шутила со смущающимся юношей. Лекарь Макриан осмотрел ее рану и снова поразился.
– Никогда еще не видел, чтобы подобная рана столь быстро затягивалась. Да вы почти здоровы!
«То-то, это тебе не молитвы твердить над болезными», – не без злорадства подумала ведьма. Конечно, не живая и мертвая вода, шрам наверняка останется, но она уже сейчас готова уйти от ромеев. Однако лекарь Макриан сказал:
– Отправитесь вместе с Невеной и другими женщинами стирать холсты для перевязок.
Ведьма только улыбнулась. Вот теперь-то она их и покинет. Обратится синицей и упорхнет…
Но сила словно замерла в ней. Колдовать среди христиан не получалось. Пришлось мрачно плестись с ворохом окровавленного холста к ручью, где за стиркой повязок следила Невена. Малфрида бросила ей под ноги отвратительную ношу.
– Не принуждай меня. Я на врагов работать не стану. Ведь они… они Свенельда моего погубили!
– Ну, спросила бы ты о своем любезном Калокире, я еще поняла бы тебя, – произнесла Невена, принимаясь полоскать холстины. – Чего тебе о Свенельде горевать? Да и жив он. Раненого его привезли в Доростол, едва на коне сидел. Потом стал понемногу поправляться. Я сама его выхаживала, пока оставалась в Доростоле. А вот Сфенкеля моего убили… Там он!
И она заплакала, кивнув в сторону ромейского лагеря.
Малфрида смутно помнила, что эта ладная болгарская женщина нравилась варягу-воеводе Сфенкелю, но противилась его ухаживаниям, называя того язычником. Теперь, значит, своим назвала. А в одной из битв зарубили Сфенкеля, и его отсеченную голову подняли на копье над частоколом лагеря ромеев, чтоб страшились русы.
Малфрида окинула взглядом этот огромный, окруженный рвами и частоколами военный лагерь. Он занимал обширную открытую возвышенность перед Доростольской крепостью, перекрывая все подходы к ней. Как она сможет пробраться к своим? Без чар ничего не получится… Но Свенельд жив! От этой неожиданной вести даже смеяться хотелось. Но она сдержалась, уважая чувства Невены, которая продолжала беззвучно плакать, развешивая выстиранные полотнища для просушки.
– А ведь все равно врагам помогаешь! – вновь не сдержалась Малфрида. – Я бы их муки удвоила, а ты возишься с ними.
– Но ведь люди же, – утерла слезы Невена. – А мне не станет легче, если я буду истязать их. Я ведь… – Она в упор поглядела на Малфриду. – Я ведь не ведьма, как ты…
И снова Малфрида ломала голову – как ускользнуть из монастыря, как вновь обрести способность колдовать? Она уже попыталась однажды ночью, но оказалось, что вокруг стоит стража, и ее тут же задержали. Еле отбилась и прибежала обратно в лекарню. Разрази их Перун! Хоть бы русы на них напали!
Между тем русы не сидели без дела. Слушая раненых, Малфрида узнала, что отчаянные язычники безлунной ночью сумели вырыть ров перед стенами града. Ромеев это привело в ярость. Они только что возвели огромные осадные башни и начали придвигать их к укреплениям Доростола… а тут, будто по волшебству, ров! Может, и впрямь колдовство? Говорят же, что среди этих язычников немало чародеев.
Осада Доростола затягивалась. Малфрида порой подумывала снова попробовать сбежать и уйти куда глаза глядят – и от войска ромейского, и от Доростола осажденного… Но нельзя. Ее долг – упредить русского князя о стерегущей его беде. Но как ей попасть к Святославу, если среди вечно молящихся христиан ее чародейство тает, как снег под солнцем? И Малфрида, вынужденная поневоле томиться в монастыре, порой с тоской смотрела в блеклое от жары небо. Стоял месяц, который на Руси называют травнем, в эту пору грозы не диво, но тут только дважды накрапывал мелкий дождик, а вот если бы Перун прогрохотал молниями, то и ведьма набралась бы сил. Да имеет ли тут Перун силу? Невена рассказывала, что некогда здешние славяне молились Громовержцу, потом стали почитать болгарского Тенгри, бога неба. И кто знает, позволит ли гроза чародейке творить волшебство?
Однажды ночью на исходе травня Малфрида проснулась от страшного шума. Кутаясь в шаль, она вышла с другими женщинами на галерею монастыря и увидела вдали отблески пламени. Шуршал мелкий дождик, но сполохи пламени были яркими, и кто-то из ромеев сказал, что это горят осадные башни и стенобитные орудия. Малфрида улыбнулась в темноте, поняв, что это дело рук ее земляков. А потом опять стали везти раненых.
Среди них оказался и юный Еводий, который в последнее время взял Малфриду под опеку. А теперь и он лежал перед ней, цеплялся за ее руки, а она, глядя на его глубоко рассеченное плечо и кровавую пену в уголках губ, понимала, что юноша вряд ли выживет.
И все же она просидела рядом с умирающим до самого рассвета, пока его душа не отлетела в христианский рай. Со слов других раненых Малфрида уже знала, что случилось. Пользуясь долгим затишьем в стане и темнотой, воины Святослава предприняли отчаянную вылазку. Их было почти две тысячи, и ночью выскользнули из города на ладьях, прошли мимо византийского флота и разгромили один из обозов, где захватили немало продовольствия и припасов. Ромеи спохватились, когда русы уже отступили под защиту стен Доростола, но когда пытались их настичь, другой отряд русов прокрался к стенобитным орудиям за рвом и подпалил их. Теперь русы не только обеспечили себя провиантом, но и могли не страшиться камнеметных орудий, которые мало-помалу крушили городские укрепления.
Можно бы радоваться, но Малфриде было грустно из-за смерти этого мальчика, Еводия. Бородатый Парфений, его наставник, поведал, как много значила для него Малфрида, парень даже поговаривал, что хочет после войны взять ее с собой в Солоники, с матушкой познакомить… Смешно, конечно, но отчего-то Малфрида опечалилась. И сердце сжималось. О, матерь Мокошь[102], не становится ли она такой же жалостливой, как эти христиане?
А тут еще выяснилось, что лазарет Макриана, куда после ночного набега русов принесли немало тяжелораненых, намерен посетить сам император Иоанн Цимисхий. Малфрида, увидев его, до бровей надвинула головной платок, отошла в сторону, спряталась за спинами лекарей и монахов. Некогда она гадала Цимисхию, когда он еще не был базилевсом, и поведала ему о грядущем возвышении[103], но теперь надеялась, что базилевс, даже если и приметит ее, едва ли вспомнит русскую чародейку.
Он и впрямь ни на кого не смотрел – только на раненых воинов. Явился в пурпурном плаще, накинутом на золоченый доспех, и в сверкающем обруче поверх длинных, гладко расчесанных волос. Был все так же невысок и пригож лицом, правда, постарел, под глазами набрякли мешки, а волосы, некогда черные как смоль и густые, поредели надо лбом. За минувшие двенадцать лет Иоанн Цимисхий сильно поседел, но, как всякий щеголь, следил за собой и усердно подкрашивал седину сирийской хной, отчего стал огненно-рыжим. Держался он величаво и степенно, как и надлежит правителю. Но когда подсаживался к своим соотечественникам, пострадавшим в ночной стычке, и негромко беседовал с ними, вел себя не как богохранимый базилевс, а как простой человек, христианин, пришедший навестить страждущих, – выслушивал их, брал руки умирающих в свои и обещал молиться о спасении их душ.
Малфрида видела, что при его приближении даже самые изможденные раненые пытались привстать и оказать ему честь. Глаза их начинали сиять, они смотрели на него, как на чудо, как на последнюю надежду. Они боготворили своего базилевса, который нередко и сам принимал участие в сечах! Иоанн всегда был воином – и когда еще не облачился в пурпур, и когда уже стал императором. И даже те, кто был приверженцем его предшественника Никифора Фоки и знал о преступлениях Цимисхия, почитали его.
В какой-то момент император повернулся к лекарю Макриану:
– Это ведь монастырь, хотя ныне и отданный для нужд раненых. Я повелеваю, чтобы здесь сегодня же провели службу. Пусть сюда доставят мощи святых и хоругви, которые мы везем с собой, и окропят все святой водой. Я сам буду молиться за умирающих, взывая к Богу и его Пречистой матери.
Малфрида находилась достаточно далеко, и среди общего гула в лекарне не расслышала, что приказал Цимисхий. Только видела, как священники посторонились, как вошел облаченный в золоченую ризу епископ, за которым несли какие-то ларцы, покрытые дорогими тканями. Монахи начали распевать псалмы, запахло ладаном.
Малфрида не заметила, когда ей стало худо; голова пошла кругом из-за духоты, смешанного запаха крови, гноя и испражнений. А еще этот густой дым ладана, от которого заломило в висках, обожгло грудь, потемнело в глазах… Ей казалось, что внутри у нее все разрывается, и эта боль все нарастала.