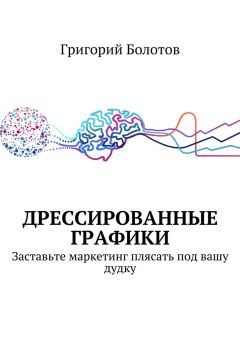Андрей Плеханов - Лесные твари
Все это было давно. Смешно было верить во все эти нелепые суеверия теперь, в наш просвещенный век. И все же, когда корявая ветвь болотного вяза вцеплялась в шею Степана сухими пальцами, когда лопались пузыри болотного газа с унылым бормотанием, распространяя тухлый запах, когда голосил сыч в чаще голосом умершего ребенка, вздрагивал он, и крестился, и шептал: «Спаси и сохрани».
Показалось Степану на мгновение, что стоит на краю болота старик, покрытый весь болотной травой, с бледным толстым брюхом, зеленою нечистой бородой и когтистыми руками, достающими почти до земли. Задохнулся от страха Степан, и остановился, и бормотать начал, как бабушка в детстве учила: «Ангел мой, сохранитель мой! Сохрани мою душу, скрепи сердце мое! Враг нечистый, поди прочь от меня! Есть у меня три листа, написано все Марк, да Лука, да Никита великомученик, за грехи душу мучить, за меня Бога молить».
Моргнул, а старика-то и нет. Бросился Степа догонять скорее Демида. Тем более, что приближались они к самому нехорошему, по преданиям, месту. Русалочьему Кругу.
Кто думает, что русалки – невинные рыбочеловеческие существа, что-то вроде полудельфина-полутопмодели с обложки журнала «Плейбой», тот – жертва средств массовой информации. В Руси русалками издревна звались страшные, хотя и красивые существа. Существа, в которых превращались умершие девушки. Умершие и не похороненные по христианскому обычаю.
Русалки не были людьми. Скорее они были живыми покойниками. Над ними безжалостно надругались, когда они еще были людьми. В русалок превращались те девушки, которые стали жертвою человеческой жестокости. Те, чьи изуродованные и оскверненные лихими людьми трупы были брошены в лесу – на растерзание пожирателям падали. И, возродившись к жизни в новом качестве – качестве лесных духов, русалки мстили людям. Они заманивали заблудившихся путников бесстыдной своей красотой в болота, щекотали их до корчи, до смерти, топили их, и люди умирали с ужасной застывшей улыбкой на лице. А русалки не умирали никогда. Они уже умерли один раз, а теперь жили своей странной, загробной жизнью. Они плавали в ручьях, пели заунывные свои песни на непонятном, никому не известном языке, расчесывали свои зеленые волосы, а по четвергам, в Русальчин велик день, водили хороводы на окраине древнего леса, в Русалкином Кругу. Они не любили людей.
Степан вырос в деревне, и уж он-то знал это. Знал все эти россказни про русалок, и водяниц, и лоскотух – как только их не называли. Но не верил никогда. В Бога верил. А в этих – нет. Все это было языческими суевериями.
Четверг был три дня назад. В тот день, когда пропала Лека. И кровавая луна взошла тогда же...
Степан сжал зубы, мотнул головой, выгоняя дурные мысли. Единственное, что должен он был сделать сейчас, найти Леку. Найти, вытащить из этого мистического ада. А уж потом – все остальное. В церковь сходить, свечку поставить. Исповедаться в грехах своих, в слабости, в неверии, в потакании дьявольскому наваждению...
Демид резко остановился, и Степан налетел на него, едва не свалившись с ног.
На фоне зловещего лунного сияния ясно вычерчивались пять гигантских изломанных силуэтов. Огромные деревья переплели руки свои в невысказанной, молчаливой муке, склонили головы свои над круглой поляной, образовали пентаграмму – только не вычерченную человеком, а живую, а потому еще более таинственную.
Русалкин Круг. Сразу узнал его Степан, хоть и не видел никогда, да и видеть не мог – только разве что в страшном сне детском. Не ходили к этому месту люди. Боялись. Говаривали, что если и попадет в Русалкин Круг человек, то так просто обратно не выйдет. Если жизни и не лишится, то обезумеет, а то, и хуже того, нечистой силе станет служить верным рабом.
– Плохое место, – сказал Степан, почему-то шепотом. – Дьявольский круг.
– Хорошее место... – Степан с изумлением увидел, что Демид смотрит на Русалкин Круг с любовью и глаза его блестят от восхищения. – Боже мой... Какое чистое место... Я, наверное, когда-то был здесь. Я помню этот Круг. Но знаешь... Сейчас нам нельзя туда. Это как Храм. Нельзя входить в чужой храм с грязными ногами и нечистыми мыслями. Нельзя.
– Лека... – снова зашептал Степан. – Она что, там?
– Подожди! – Демид приложил палец к губам. – Кажется, я слышу! Они говорят мне... – Он опустился на колени, прямо в сырую острую осоку, положил руки ладонями вверх и замер.
Начинало светать. Холодный утренний ветерок пробирался между мокрыми черными ветками. Деревья на поляне тихо шелестели листьями, вздрагивая сквозь сон. Комары назойливо зудели, норовили облепить лицо, и Степан с остервенением отмахивался, давил их на ушах и на лбу, весь уже покрытый волдырями и расчесами. Над головой Демида кружился целый рой мошкары, выстраивая в воздухе причудливые серые знаки, но ни один комар почему-то не садился на лицо его. Демид сидел, как китайский божок, и не подавал признаков жизни.
Степан стоял и хлопал глазами и бездумно размазывал по лицу кровь – свою и комариную. Это был он, Степан, тот же Степан, который еще вчера с чертыханием вытаскивал проволокой насос, ухнувший в скважину, и поливал из шланга огурцы, и хлебал окрошку деревянной ложкой с обгрызенным краем, и, развалившись в тенечке под яблоней, в короткий свой послеобеденный отдых читал книгу Бушкова, поругивая себя в душе, что Бушкова, а не Павла Флоренского, но так уж устроен человек, что не хочется ему после умиротворяющего обеда читать Флоренского, и опрыскивал картошку какой-то гадостью против жуков, и ругался по телефону с партнерами из ресторана «Домино», никак не перечисляющими деньги, и чинил вечером почерневшую розетку на кухне, и скакал на одной ноге и матерился, когда его рубануло током... Это был тот же Степан, и все-таки уже совсем другой. Он не мог остаться таким же, как был до этого, до того, как в жизни его появился Демид. Демид, несомненно, был закоренелым индивидуалистом, не было у него ни малейшего желания переделывать мир к лучшему, он просто играл в какие-то свои игры. А может, и в чужие игры, против своего желания. Но Демид переделывал людей, которые с ним соприкасались. Они не могли оставаться прежними после встречи с ним. Какой-нибудь экстрасенс заявил бы, что Демид – источник мощного поля, деформирующего энергетику окружающего пространства и времени, что психическая, паранормальная энергия бьет из него ключом и заставляет людей, волею судьбы тесно соприкоснувшихся с ним, переходить на новый энергетический уровень, приспосабливаться, чтобы выжить.
Но Степану неведома была вся эта терминология. Он только почувствовал вдруг, что прежнего Степана больше нет. Прежний Степан, конечно, не умер, он растворился в Степане новом. Каким был этот новый Степан? Стал ли он выше, чище? Степа не знал. Он только почувствовал, что стал менее зависим. Менее зависим от людей, которые окружали его, опутывали его нитями ежедневных отношений, любви и ненависти, приязни и неприязни. Менее зависим от Бога? Может быть. Это не делало его более грешным. Скорее наоборот. Он уже не хотел спрашивать у Бога разрешения на каждый свой поступок. Он понял, что бессмысленно отвлекать Бога на решение своих мелких проблем. Он стал более свободным.
Или хотел стать.
– ...Там ее нет. – Демид, оказывается, уже очнулся, вышел из своего транса, уже стоял и разминал затекшие свои ноги. – Они сказали мне. Да. Я надеюсь, что я правильно понял их язык?
Демид наклонил голову и прислушался, как будто там, внутри его головы, кто-то отвечал ему, разговаривал с ним по телефону. И он услышал ответ.
– Ага. Ты думаешь? А где? Там, в кюсото?
Снова ответ, который Степа не мог услышать – только прочитать в затуманенных глазах Демида. Демид Коробов явно страдал раздвоением личности. Степан, слегка знакомый с основами психиатрии, еще вчера без тени сомнения поставил бы диагноз: шизофрения. Но теперь ему было все равно. Демид имел право и на шизофрению, и на невидимого собеседника в голове. В ситуации, в которой они оказались, только сумасшедший мог выглядеть здравомыслящим.
– Пойдем, – сказал Демид. – Я знаю. Теперь знаю. Это рядом.
Они прошлепали три километра, прежде чем добрались до этого «рядом». Они вернулись в березовую рощу. В Священную Рощу. Они уже пробегали здесь глубокой ночью, и Курган задумчиво кружил здесь между деревьев. Но тогда он не учуял Леку. Наверное, пахла она уже как-то по-другому. Не по-человечески.
Степан не сразу увидел ее. Даже когда Демид остановился, и схватил его за руку, и молча показал пальцем на большой белый нарост на старой огромной березе, он еще не понял. Курган бешено залаял, встав во весь свой собачий рост, царапая дерево передними лапами. И лишь тогда нарост зашевелился, и вскрикнул тихим жалобным голосом, и переместился выше.
– Турмоо карх, Хаас Лекаэ ми нас хейаа туо, карх веэ аэнноу! – Слова эти были произнесены на языке, не похожем на человеческий. Распев-мольба-молитва. Может быть, это был язык русалок? Но та, что произнесла эти слова, не была русалкой. Она была человеком. Девушкой. Девушкой с бледной как мел кожей, темными волосами и зелеными глазами. Только глаза ее не были такими яркими, как раньше. Они потускнели.