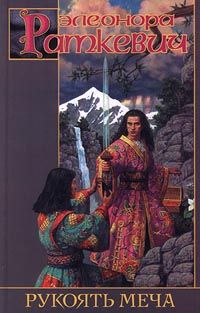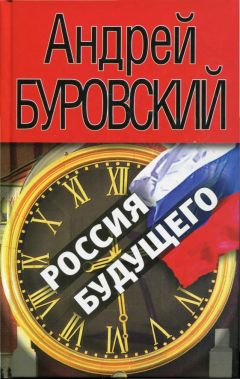Элеонора Раткевич - Таэ эккейр!
Папаша Госс сочувственно вздохнул. Экую головную боль взвалил на себя Орит, забрав у вдовой сестры ее непутевого сынка! С таким дурнем хоть всю жизнь промаешься, а на ум его не наставишь. Ирника в Луговине невзлюбили сразу и крепко – может, как раз оттого, что Орита душевно уважали. Странно все-таки жизнь складывается: Орита, хоть и суланец он, считали в Луговине почти своим, зато племянничек его, даром что уроженец Найлисса, был единодушно признан чужаком, наволочью приблудной. Суланцев частенько дразнят сырами… ну что ж, все верно: Орит хоть и суланский, да сыр – а Ирник хоть и найлисская, а плесень. И как всякая плесень, повсюду пролезет, стоит самую малость недоглядеть. Никуда от него не денешься. Вот только господин Орит из Общинного Дома вышел повозки свои да лошадей на ночлег пристроить, а племянничек его уже тут как тут. Сам сбежал от дела тихомолком или Орит его прогнал, чтоб под руками не путался – какая разница? И того уже довольно, что здесь он, разлюбезный. Явился незван, как похмелье, да и сидит себе, разглагольствует… языком-то он, и верно, и пахарь, и косарь… ишь как разошелся, хвороба дурная! Век бы тебя, голубчик, не видеть и голоска твоего приторного не слышать – потому как ежели прислушаться… что-о-о?!
Папаша Госс не поверил собственным ушам.
Что… что эта полова пустая такое говорит?!
И ведь что страшно – не просто говорит, так ведь еще и слушают его. Самые что ни на есть молодые, для которых такие речи – сплошная отрава. Покуда детишки о своем шумят, а степенные о своем степенствуют, юнцы-то и расслушались. И лица у них такие, что и не разберешь – то ли вприсмешку слушают, то ли, не приведи нелегкая, всерьез. А что бы им и не слушать? Парень-то – погань отменная, кто же спорит… да зато опытная. Свет повидал. В городах потерся, с дядюшкой суланским поездил, всяких небылиц нагляделся. Купцы, они чего только не видели. Ну, сам-то Ирник хоть и не купец, зато подручный… эх, вот слупить с тебя, с поганца, одежку твою купецкую – пусть бы все увидели, что ты из себя за чирей! А так оно вроде и незаметно. И слушают тебя, опытного, тертого и бывалого – вдруг да что умное скажешь… ну как же оно так получилось, что никто из рядом сидящих тебя за глотку не придавил?
– А чего им, остроухим – так все и спускать? – разглагольствовал меж тем Ирник. – Что бы их самих тем же куском не накормить?
Папаша Госс тяжело поднялся с лавки. Отсюда не докричаться, далековато получается, а вот подойти поближе да сунуть подлому сквернавцу промеж глаз…
– Ты про этот кусок и рта не найдешь, – отмолвил молоденький пастух. – Перевал пройти не велик труд, в особенности по левой стороне, а толку чуть. Долина, она ведь не по твоей, а по своей воле открывается. Что же, так и будешь до старости дурниной скакать да дубиной махать, ждать, покуда тебя, вояку, Долина впустит?
Госс перевел дыхание. Так-то, голубчик. Умы смущать тоже скверно – а только ничего из этой скверности не выйдет. Хотя за ту злобу, что ты походя в каждую чашку разливаешь, тебе так и так заедка полагается.
– Вот еще, до старости! – фыркнул Ирник. – Разве остроухие с вами обмена не ведут? Дядюшка мой вон сколько ихнего добра у вас закупает. В ту пору, как они товар свой менять соберутся, и подкараулить. Без дверей ведь из дому не выйдешь. Как они дверь из Долины откроют – тут-то и навалиться.
У папаши Госса не то, что дыхание – сердце занялось. Что значит – умишко, на пакости повадливый! Скоро же он догадался. И ведь верно догадался. Это может получиться. Это ведь очень даже может получиться. Не только тех, кто из Долины выйдет, врасплох подкараулить – если остроухие растеряются, дверь свою запереть не успеют… этак ведь и в саму Долину ворваться можно.
– Ты что это… – сдавленным, полусорванным голосом произнес папаша Госс, воздвигшись над купцовым племянничком. – Ты это что… Да ты… ты это как себе мыслишь такое?
Ответить Ирник не успел.
– А очень просто, – раздался насмешливый голос кузнецова сына, Ронне-маленького. – Берут трое парней господина Ирника заместо вывертня да и дуют в Долину. Там его соседи наши с дорогой душой пристрелят, а мы его потом назад на телеге привезем.
По Общинному дому плеснулся хохот.
Ирник резко побледнел. На такой оборот дела он не рассчитывал.
– Правда, на вывертня он не шибко-то и тянет, – продолжал рассуждать вслух Ронне-маленький. – Разве вот если его самого по такому случаю наизнанку вывернуть…
И Ронне-маленький потянулся и расправил свои необъятные плечи, будто выражая простодушную готовность ради общего блага хоть сейчас приступить к упомянутому выворачиванию.
Хохот, прежде сдержанный, сделался громче.
Темнота, сдавившая глаза папаши Госса, отступила. Ай да Ронне! Вот кто как хочет, а папаша Госс этой осенью не кого другого, а Ронне-младшего в Хранители кошеля выкликать будет. Эк лихо он Ирникову злобу на смех обернул! И Ронне-кузнец мужик дошлый, и кузнечонок его умом не обижен. Точно в отцову стать парень вышел, чтоб ему и на этом свете ни разу не чихнуть, и на том по весне фиалки нюхать.
А кузнец уже и сам начал проталкиваться к господину племяннику – не иначе, услышал обрывок разговора. У мельника окончательно отлегло от сердца. Уж если не только кузнецов сын, но и сам кузнец за балабола поганого примутся…
– Он ведь себе что смекает? – ехидно добавил Ронне-младший. – Нашими руками эльфов пограбить да и самому деру дать. Законопатиться в щель подальше, барахлишко распродать и большую поживу взять… верно я говорю? У господина подручного не за отместку, а за барыш голова болит. Ориту нашими слезами наживаться совестно, а родич его нашей да чужой кровью торговать вздумал!
Эх, парень, да если приведется дожить, тебя не просто в Хранители, тебя старостой выбирать надо – и я первый за тебя скажу! Когда в молодые годы да старолетний ум – чего еще искать! Папаша Госс едва не прослезился. Малыш Ронне, видать, даже отца поумней будет… хотя какой он малыш – под самую притолоку вымахал! И не только ростом – соображением тоже. Он ведь словами своими и от купца Орита беду отвел. Не быть суланцу за племянникову подлость виноватым. А племянничек, и точно, отрава, каких мало. Так соврет, что не перелезешь. Вся Луговина ходуном ходит – долго ли тут до греха? Трудно ли юнцов горячих взбаламутить? Трудно ли заставить их позабыть, что остроухие-то были околдованы, и околдованы человеком? Что лучник, который мага стрелой снял, такой же точно эльф? Когда бы не кузнечий сын… глядишь, и натаскал бы парней найлисский воренок. А они ведь по молодости лет не понимают, каково оно – на чужой крови свой хлеб замесить.
– Он нас взбаламутил да и уехал – а нам с остроухими и дальше рядом жить, – заключил Ронне-младший.
Трудно сказать, чего желал поблекший, как прошлогоднее сено, господин Ирник. Скорей всего, удрать на конюшню да до самого отъезда людям на глаза не показываться. Однако если он что такое и задумал, то успеть ничего не успел. Даже и шелохнуться не успел.
Сквозь толпу наконец-то протолкался Ронне-старший.
Брови кузнеца ерошились разъяренными рысями, ходили ходуном; налитые силой кулаки сжимались и разжимались. Кузнец Ронне доставал собственному сыну разве что до плеча – но грозен был, пожалуй, вдвое.
– Ты это что тут затеял, пузырь сопливый, а? – опасным тихим басом, от которого дрогнули лавки, поинтересовался кузнец. – Наших парней в грабежники сманивать?
Ирник втянул голову в плечи.
– Да ты… да тебя… – пробасил Ронне, – давно пора тебя… того… потому как ты отроду не того…
В Общинном Доме воцарилась тишина, жаркая, как кипяток.
Годами проверенные приметы не лгут. Обильная ночная роса предвещает жаркий день. Затянуло все небо «кошачьими хвостами» – жди ветра. Ласточки понизу летают – быть дождю. А если в речи Ронне-кузнеца вдруг явились волшебные слова «того» и «не того»…
Вообще-то вопреки традиции, велящей кузнецу быть молчуном и нелюдимом, Ронне был балагуром, каких поискать, и слова одно к другому укладывал, словно удары своего молота – быстро и безошибочно. Однако в минуты тяжкой душевной смуты либо непосильного гнева он неизменно терялся, и пресловутые «того» и «не того» становились поперек его всегда такой цветистой речи. Если предзакатной порой, когда приятель остроухого лучника обличил вывертня, эти слова являли собой растерянность, охватившую кузнеца, едва он понял, что мстить некому, то уж сейчас они полыхали гневом, раскаленные и тяжкие, словно поковки. Примета не лгала: ничего, кроме битья смертным боем, господину племянничку они не сулили.
Однако не кузнецу суждено было совершить это необходимое дело.
Как знать, давно ли Эрле и Коррен, Оритовы охранники, вошли в Общинный Дом. Может, вот только что, а может, и давно – никто ведь на двери и внимания не обращал. Одно было ясно: так или иначе, а услышали они достаточно. Первым подошел Коррен, заступив дорогу кузнецу. Эрле следовал за ним шаг в шаг.