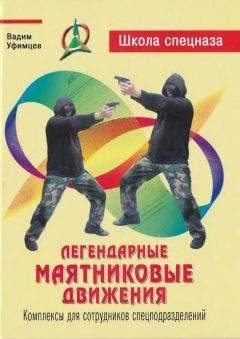Андрей Быстров - Занавес молчания
Сейчас, когда самолет нацеливался на полосу, сияющую рядами посадочных огней, Илларионов занервничал. Он не боялся, что самолет разобьется, просто не думал об этом, но уж очень безрассудной, просто безумной представилась ему вдруг затеянная авантюра. Что за остров посреди свинцового моря, кто и что там внизу? Еще вчера жизнь профессора, как говорят в механике, двигалась равномерно и прямолинейно. А теперь Санкт-Петербург, институт, коллеги, исследования остались где-то в другом, уже не слишком реальном мире, и как знать, не навсегда ли? С невеселой усмешкой профессор вспомнил словарное определение «авантюры» – «рискованное предприятие, обреченное на провал»... Мог ли он поступить иначе? Безусловно. Как? А не все ли теперь равно...
Посадку трудно было назвать мягкой. «Бич Джет» подпрыгнул, плюхнулся на полосу, покатился словно по ухабистой дороге. За иллюминатором профессор с удивлением увидел холмики снега, совсем близко от полосы. Среди них торчали какие-то будки вроде метеорологических. Дальше видна была большая радарная тарелка, замеченная Илларионовым еще с воздуха. В свое время он косвенным образом занимался радарными технологиями и знал, что модификация эта безнадежно устарела еще в 1990 годах. Но может быть, здесь радар используют не по прямому назначению, а в иных целях, для которых старая тарелка годится?
Содрогнувшись в последний раз, самолет остановился. Открыли дверь, спустили трап. Ледяной ветер ворвался в салон. Щурясь от злых порывов, пригоршнями швыряющих в лицо сухой колючий снег, профессор шагнул на верхнюю ступеньку трапа.
Самолет встречали двое – оба пожилые, оба в длинных плащах. Профессор мог легко признать в них если не коллег, то, несомненно, людей, занятых интеллектуальным трудом, но лично эти двое были незнакомы ему. Они заботливо помогли профессору сойти с трапа, сердечно пожали ему руку.
– Дорогой Андрей Владимирович! – произнес тот из двоих, что был старше, с открытой, искренней улыбкой. – Добро пожаловать домой... Как там град Петров, стоит еще?
Илларионов нашел в себе силы попасть в тон:
– Как Венеция, тонет полегоньку...
– Ничего, потонет, вытянем... А вы прекрасно выглядите. Как долетели?
– По меркам здешней погоды, превосходно.
– Проголодаться не успели?
– Успел.
– Тогда прошу, прошу... – Последовал широкий, шутливый приглашающий жест. – К вашему прибытию мы приготовили что-то наподобие торжественного обеда. Обещаю, что торжественности будет мало, а обеда – много.
Профессор вымученно засмеялся, надеясь, что его смех все же не очень выдает напряжение.
– Прошу, – повторил незнакомец и зашагал по вымощенной плитами дорожке, проложенной под углом к полосе.
Помешкав секунду, Илларионов пошел за ним. Второй встречавший остался возле самолета. О чем-то негромко переговариваясь с Келиным, он наблюдал, как открывают люк грузового отделения. В конце полосы показался красно-желтый пикап.
Илларионов и его спутник прошли через калитку в невысоком, почти символическом заборе и направились к группе приземистых кирпичных зданий без окон. Территория, которую они пересекали, была довольно захламленной. Там и здесь валялись связанные, заснеженные кипы пожелтевших бумаг, ржавые огнетушители, обломки металлических сварных рам. Спутник профессора перехватил его взгляд и пояснил со смущенным видом хозяина, в чьей квартире гость застал беспорядок:
– Давно бы убрать, да руки не доходят. Все эти нетленные ценности, вы понимаете, с тех пор, как мы устраивались тут заново. Кучи мусора пришлось выгрести! Вам известна теория о самовоспроизводстве мусора?
– Мог бы защитить по ней вторую диссертацию, – сказал Илларионов.
Они миновали стоянку с двумя полугусеничными тягачами и вошли в центральное здание с нанесенным у входа по трафарету обозначением «Корпус 1». В просторном, ярко освещенном холле было пустынно и почти так же холодно, как за его стенами. Пройдя вдоль длинного ряда лифтовых дверей, проводник Илларионова остановился у шестой по счету и нажал кнопку.
Дверь тут же открылась. На вмонтированной в стену лифта зеркальной пластине профессор увидел лишь две клавиши со стрелками вниз и вверх.
Когда дверь закрылась и начался стремительный спуск, профессор Илларионов ощутил что-то похожее на приступ клаустрофобии, которой никогда не страдал раньше. Этот лифт, проваливающийся в шахту как в пропасть, уносил его все дальше от привычного мира. В скоростном падении была какая-то бесповоротность и безвозвратность, и сердце профессора заныло, ужаленное иглой тоски.
Добро пожаловать, дорогой профессор. Добро пожаловать домой.
35
Ника проснулась оттого, что Джона Шермана не было рядом. Не открывая глаз, она обшарила подушки, но уже знала, что его нет в постели, – и знала, что он где-то близко, что он не ушел.
Она открыла глаза. Это совсем не так просто, как может показаться. Иногда не хочется открывать глаза, проснувшись, а открываешь их с мысленной цитатой из Саши Черного: «Здравствуй, мой серенький день... Сколько осталось вас, мерзких? Все проживу...» Но иногда, открывая глаза, радостно и благодарно приветствуешь каждый световой лучик, каждую трещинку на потолке лишь за то, что они есть.
Ника блаженно потянулась. Истома во всем теле не отпускала ее, сладко ныло внизу живота. «Почему, – подумала она, – мне наплевать на угрозы и опасности, на всю эту собачью муру, вот сейчас, в этот момент? Потому что этот момент и есть абсолютная истина. Все философы ошибались. Через минуту, час, день все будет по-другому, а сейчас – так, и хоть трава не расти».
В комнату вошел взъерошенный Шерман. Он держал поднос, на котором стоял высокий стакан с апельсиновым соком и заманчиво светилась вазочка с клубникой. Свежая клубника?! Ну конечно, аромат свежей клубники ни с чем не спутаешь. Но где, когда он ее раздобыл? В холодильнике никакой клубники не было... А если бы и была, так мороженая – клубника не вызревает в холодильниках, как на грядках.
Присев на кровать возле Ники, Шерман сбалансировал поднос в шатком равновесии на ручке ближнего кресла. Потом он напоил Нику соком, не давая ей в руки стакан, и принялся кормить спелыми благоухающими ягодами.
– Зря переводишь клубнику, Джон. – Она жмурилась от удовольствия, капельки клубничного сока падали на ее левую грудь. – Зря! Ее можно использовать в эротических целях.
– Ее много, – утешил Нику Шерман. – Есть еще другие ягоды, такие, как они называются... В общем, очень эротические.
Приподнявшись на локте, Ника отобрала у Шермана вазочку.
– Джон, в моей биографии... Ну, когда я была молодая и глупая...
– Как удачно, что я это пропустил. Намного приятнее иметь дело со старой и умной.
– Обижусь!
– Шантаж – твой излюбленный метод.
– Ты будешь слушать или нет?!
– Внимательнейшим образом.
– Так вот, был такой эпизод в моей биографии. Я поступала на актерский...
– Да ну? – вежливо удивился Шерман.
– Ну да! – отрезала Ника. – И знаешь, что я читала на экзамене? Не какую-то занюханную «ворону где-то бог послал куда подальше». Я читала из манновского «Доктора Фаустуса». Письмо Леверкюна Кречмару, где он пишет о музыке. Вот, послушай. Наизусть уже не помню, но близко к тексту. О классической симфонии, вот: «Благозвучная мелодия приближается к высшей точке, которую на первый раз еще обходит; от нее уклоняется, приберегая ее для дальнейшего...» Так, потом там длинное описание, но вот дальше: «Возникает прелестное сочетание звуков в среднем регистре, оно возносится в волшебные выси, где царят скрипки и флейты... Сызнова звучит хорал... Мелодия благоговейно движется к высшей точке, от которой она так мудро уклонилась, дабы из груди вырвалось это «ах», дабы еще сильнее сделался наплыв чувств теперь, когда она уже уверенно устремилась вверх, мощно поддерживаемая гармоническими звуками басовой трубы, и, осиянная, достигла вершины». Ну как?
– Красиво.
– Меня не приняли.
– По-моему, просчитались.
– После экзамена председатель комиссии, известный наш режиссер сказал мне: «Ты читала так, словно это совсем не о музыке...» А вот я сейчас думаю: ведь и впрямь не о музыке!
– А о чем?
– Да о том, чем мы с тобой тут занимались. Разве нет?
Шерман серьезно кивнул. Ника заговорила снова:
– Знаешь, мне ведь поначалу было страшновато с тобой, Джон. Нет, не то... Вот хорошее слово – жутковато, как в колдовской сказке. Жутковато, а все равно идешь.
– Ты меня боялась?
– Нет, не тебя. Того, что за тобой... Ты мне представлялся... только не смейся... чуть ли не пришельцем каким-то.
– Ну а теперь? – улыбнулся Шерман. Ника рассмеялась, рассыпала смех серебряными колокольчиками:
– Теперь – нет! Пришельцы, наверно, много чего умеют, но вот в постели с земными женщинами – это вряд ли...
– Почему же?
– Как почему? Мы одни, они – другие...