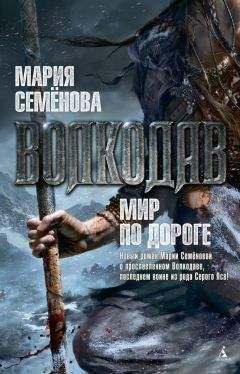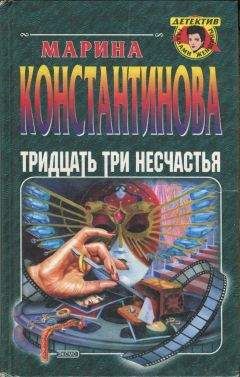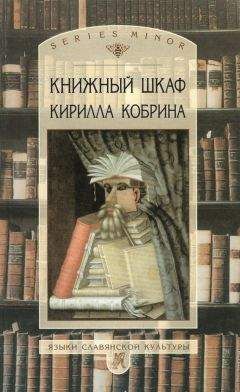Мария Семёнова - Славянское фэнтези
Носящий серебряного бобра вздохнул грустно и длинно, словно бы объясняя, какие именно вздохи счел возможным забыть Его Блистательная Недоступность. И заговорил опять:
— Видишь ли, я сам ещё не сумел поверить. Меч трогаю-глажу постоянно, а всё равно боюсь верить, что мой, что опять вместе… А Серебряный не дожил. Ее Светлая Нед… э-эх… Не-до-ступ-ность вымолила его у отца, берегла, ухаживала, а он… всего полгода не дотерпел, не дождался… Ладно! — Витязь распрямился в седле, зашарил взглядом по подножию ощеренного частоколом холма (верно, высматривал бесы знают куда успевшего добраться разведчика). — А с чего ты дорогою вздумал рассказывать о прошлых-запрошлых людях?
— Да так… Подумалось: если прежних Всеединый недопотопил, недовыжег, то, может, и ОН с нами не совладает?..
— Может. — Витязь рассеянно передвинул из-за спины щит, взялся за подвешенный к седлу шишак. — ОН все может. Ты говорить говори, только и смотреть-то не забывай.
Старшина приподнялся в стременах, высмотрел замерший под самой частокольной подошвой крохотный людской силуэт…
— Не туда, — спокойно, чуть ли не сонно даже вымолвил витязь, застегивая подбородочный ремень шишака. — Правее смотри. На реку.
Старшина посмотрел на реку. Как раз вовремя посмотрел, чтоб успеть увидеть: ворочающийся над руслом бурчливый туман словно бы злобным порывом ветра изодрало на стремительные летучие клочья, и клочья эти, стелясь над самой травой, увеличиваясь, набирая очертаний, чёткости, плоти, раскинулись волчьим загоном в охват конной топчущейся на месте лавы.
Выругавшись длинно и грязно, ополченческий голова швырнул коня с места в карьер — туда, к то ли растерявшимся, то ли всё ещё не замечающим своей смерти ратникам.
А витязь остался стоять на облюбованном всхолмье. Стоять и смотреть.
Нет, ратники не проморгали опасность и не растерялись.
Конная лава взбурлила, скомкалась, её правое крыло начало тянуться, заламываться и вдруг оторвалось, развернуло себя сперва веером, затем — плотным широким валом, и вал этот стронулся навстречу серым клочковатым теням. Всё быстрей. Всё неудержимее. И уже застонала буротравая шкура земли под тяжким разгоном рвущейся в бой панцирной конницы, и уже сквозь этот стон продавился и пошел в рост слитный свирепый рёв — рёв-предвкушение того мига, когда чья-то плоть кровавым шматьём расхлестается о гранёные наконечники пик, когда не земля закричит под бешеной молотьбою копыт…
А вдогонку первому валу уже разгонялся второй — добивать, довытаптывать всё, что умудрится выжить под пронёсшейся кованой гремучей лавиной…
Но вышло не так.
Головная лава внезапно стала почти беззвучной, потому что резко поубавила ходу. А потом остановилась. А потом попыталась развернуться и разогнаться навстречу второй.
Они сшиблись — в слитном людском и нелюдском вопле, в лязге, в трескучем громе лопающихся древков; и эта ни с чем не сравнимая по ужасной силе своей сшибка латных конных отрядов мгновенно размозжила себя на многое множество схваток, диких, нелепых — будто бы каждый норовил рубиться со всеми, а все с каждым.
Так не бывает, так просто не может быть.
Но так было.
А носитель Серебряного Бобра, глядя на жуткую небывалую быль, вдруг улыбнулся.
Устало, но широко и спокойно.
По-настоящему.
Потом, не гася светлой облегчённой улыбки, перевёл взгляд левее, на бесноватое метание убивающих друг друга стрелков (каждый против всех, все против каждого).
Потом запрокинул голову, высмотрел едва-едва различимую в тяжких преддождевых космах светлую тень — солнце… Глубоко вдохнул пряную влагу ветра… Ещё раз вдохнул и ещё… длинно, неспешно… будто смакуя… или будто прощаясь…
А потом взялся за привешенные к поясу латные рукавицы, отстегнул их, но не надел — уронил в траву. Словно бы вспугнутый лязгом упавшей стали, жеребец взбрыкнул, заржал визгливо и злобно, вывернул лебединую свою стройную шею, пытаясь достать зубами колено всадника… Короткий хрусткий удар кованым краем щита обрубил визг жалобным вскриком. Витязь соскочил с обмякшего, оседающего наземь коня, вздохнул сожалеюще…
И отвернулся.
И начал неторопливо спускаться с всхолмья, держа куда-то правей истребляющей саму себя конницы.
То ли туманом, то ли Бесовыми Пустошами рождённые твари не вмешивались в людские убийства. Едва различимые над жухлой травой чешуйчатые серые спины мелькали вокруг побоища, не приближаясь к нему; но стоило лишь какому-нибудь ополченцу выпасть из смертного водоворота, и тут же навстречу хлестала тусклая рычащая молния…
Носитель Серебряного Бобра не сбился с прогулочного спокойного шага и не обнажил клинок, даже когда путь ему загородили два оскаленных чуда со сгустками жёлтого пламени вместо глаз. Давясь клокочущим хрипом, твари всё плотнее вжимались в траву, всё круче выгибали спины, готовясь швырнуть себя навстречу приближающемуся человеку… и вдруг шатнулись в стороны, пропуская. Всего скорее, витязь даже не заметил их. Не заметил, потому что безотрывно смотрел на то, чему они его уступили.
Неспешно, уверенно надвигалось на него огромное (не меньше быка) чудовище — тускло-белесые комья выпученных бельм под гребнистым навесом лба, ощеренная заросль бивнеподобных клыков… морщинистое рыло вспучено толстым изогнутым рогом с каким-то мохнатым грязно-бурым наростом…
Чудовище…
Тварь…
Конь.
И всадник на этом коне. Белые, словно бы заиндевелые латы… Треплимые ветром словно бы заиндевелые волосы… Отрешённое матовое лицо — нелюдски застылое и нелюдски красивое… Настолько красивое, что красоту эту не портят даже рубцы, исполосовавшие щеку. Приметные рубцы — как бы четыре молнии. Одинаковые. В ряд.
Рыкнув, мотнуло головой корчащее из себя коня пустотное чудо, и витязь наконец взялся за меч (вызволенный из темницы ножен воронёный клинок тихо, но грозно зазвенел на ветру). Потому что от рывка уродливой головы растрепались бурые пряди, которыми залип грязный нарост на тварьем рогу.
Нарост…
Старческая отрубленная голова. Косматая, длиннобородая, сморщенная.
И вдруг показалось витязю… может, дёрганье набирающего разбег чудовища было тому виной… Так, иначе ли, а только показалось вдруг витязю, будто из чёрных ям высохших мёртвых глазниц плеснуло мучительной сумасшедшей болью и мучительной сумасшедшей надеждой.
И ещё показалось, будто тусклые отблески воронёного клинка мучительной сумасшедшей надеждой раздробились в стеклянных зрачках всадника, обеими руками которого уже широко размахнулся невиданный серебряно-льдистый меч.
Павел Молитвин
ПЯТНИСТЫЙ ЩАСВИРНУС
— …Ты когда-нибудь видал Пятнистого или
Травоядного Щасвирнуса у нас в Лесу?
— Нет, — сказал Пух, — ни-ко… Нет. Вот
Тигру я видел сейчас.
— Он нам ни к чему.
— Да, — сказал Пух, — я и сам так думал.
А. Милн. Винни-Пух и все-все-всеСначала была боль, а потом долгое беспамятство. Сознание вернулось вместе с болью, и я вспомнил, что нахожусь в больнице, куда попал после пожара в подвале, где мы разводили и разваливали по бутылкам сомнительной очистки спирт. Его привозили в двадцатипятилитровых алюминиевых канистрах, и запах стоял такой, что впору закусывать. Сливы в нашем «цеху» постоянно засорялись, водка хлюпала под ногами, так что работали в резиновых сапогах, и никому, естественно, не приходило в голову закурить в помещении. А тем паче бросить окурок на пол.
Но рано или поздно незаряженное ружье выстрелит. И вчера — а может, уже позавчера? — тряпье, валявшееся в сенях нашего предприятия, вспыхнуло. Водка горит плохо, и если занялась ясным пламенем, то исключительно потому, что клиент наш, который всегда прав, получал градусы «с походом». Мы с Мишаней тоже получили свое. Остальные отделались легким испугом.
Мне стало совсем плохо, и я решил, что непременно сдохну. Если не от ожогов, то от боли. Но потом в больницу прорвалась моя вторая половина, и я получил укол, от которого мне резко захорошело. Боль ушла, и я попал в преддверие рая.
Из вереницы дивных картин запомнился залитый солнцем сад с множеством фонтанов, разбитый неподалеку от дворца, похожего на Тадж-Махал. В благоухающем цветами саду резвилась дюжина миловидных дев: они развлекали меня умным и приятным разговором, потчевали фруктами из роскошных ваз, стоящих на низких столиках, а потом потащили в ближайший бассейн, посредине которого стояла мраморная наяда, обнимавшая морского коня. И еще снились мне бронзовые статуи, которые пели сладостными голосами, и текучий металл их тел был не менее соблазнителен, чем бархатистая кожа окружавших меня дев…
Очнувшись, я обнаружил, что кровать моя стоит в ряду других в коридоре, припаркованная головой к стене, и из окон на страждущих льется серый свет зимнего петербургского дня. Вместе с проснувшейся болью в памяти всплыли обрывки разговоров о том, что мест в палатах нет и меня надобно отправить в ожоговый центр. Голоса врачей и сестер мозг не зафиксировал, зато четко запечатлел резкий и требовательный голос жены. Мы с ней не очень-то ладим, но, поскольку это длится уже более двадцати лет, знакомые считают нас идеальными супругами, живущими душа в душу. Полагаю, Ирина охотно разменяла бы меня на двух двадцатидвухлетних парней, точно так же, как я ее — на двух двадцатилетних девиц, но подобного обмена нам никто не предлагает. И потому мы продолжаем осложнять жизнь друг другу. На этот раз, впрочем, она осложняла жизнь персоналу больницы, сообразив, что я — «какой ни есть, а все ж родня» — еще пригожусь ей. Меня, как старую крысу в «Маленьком принце», можно время от времени приговаривать к смертной казни, но в последний момент ее следует отменять. Ведь крыса на планете имеется в единственном экземпляре и ее надо беречь.