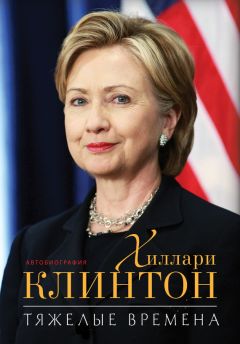Стивен Кинг - Стрелок (пер. Р. Ружже)
Оборвав эту мысль, он прогнал ее от себя. Единственным непредвиденным обстоятельством, с каким он еще не свыкся, была возможность самому сойти с ума. Стрелок вернулся в землянку.
– Ты уже решил, видение я или нет? – от души забавляясь, спросил Браун.
Изумленный стрелок остановился на крошечной площадке лестницы. Потом медленно сошел вниз и сел.
– Я начал рассказывать тебе про Талл.
– Он разрастается?
– Он мертв, – ответил стрелок. Фраза зависла в воздухе.
Браун кивнул.
– Пустыня. Думается, со временем она способна задушить все, что хочешь. А знаешь, было время, когда через эту пустыню шла проезжая дорога.
Стрелок прикрыл глаза. В голове царила бешеная круговерть.
– Ты подмешал мне дурь, – хрипло выговорил он.
– Нет. Я ничего не делал.
Стрелок устало поднял веки.
– Тебе будет не по себе, покуда я не попрошу тебя рассказать, – продолжал Браун. – Вот я и прошу. Расскажешь мне про Талл?
Стрелок нерешительно раскрыл рот и с удивлением обнаружил, что на сей раз слова искать не придется. Поначалу бессвязные, невразумительные, сбивчивые фразы мало-помалу развернулись в плавное, немного невыразительное повествование. Ощущение одурманенности прошло, и стрелок обнаружил, что охвачен непонятным возбуждением. Он проговорил до поздней ночи. Браун ни разу не перебил его. Птица тоже.
<B>5
Мула стрелок купил в Прайстауне и, когда добрался до Талла, животное еще было полно сил. Солнце уже час как село, однако стрелок продолжал идти, ориентируясь сперва на зарево огней в небе над поселком, а после – на разухабистые аккорды пианино, игравшего «Эй, Джуд» так чисто, что жуть брала. Дорога расширялась, вбирая в себя притоки.
Леса давно сменились унылым, однообразным сельским пейзажем: бесконечные покинутые поля, заросшие тимофеевкой и низким кустарником; лачуги; жуткие заброшенные поместья, где несли стражу мрачные, погруженные в тень особняки – в них, несомненно, бродили демоны; покосившиеся пустые хибарки, обитатели которых то ли сами двинулись дальше, то ли были вынуждены сняться с места; редкие землянки поселенцев – ночью такую землянку выдавала мигающая во тьме огненная точка, а днем – угрюмая, замкнутая, вырождающаяся семья, молча трудившаяся на своем поле. Главные урожаи давала кукуруза, но встречались и бобы, и горох. Изредка стрелок ловил на себе долгий тупой взгляд какой-нибудь тощей коровы, глядевшей в промежуток между ольховыми жердями в клочьях отслаивающейся коры. Четыре раза он разминулся с дилижансами: два ехали ему навстречу, два обогнали его. Обогнавшие были почти пусты; в тех, что держали путь в противоположную сторону, к северным лесам, пассажиров было больше.
Это был уродливый край. С тех пор, как стрелок покинул Прайстаун, дважды, оба раза неохотно, принимался дождь. Даже тимофеева трава казалась желтой и унылой. Безобразный пейзаж. Никаких признаков человека в черном стрелок не замечал. Возможно, тот подсел в дилижанс.
Дорога повернула. За поворотом стрелок щелкнул языком, останавливая мула, и посмотрел вниз, на Талл. Талл располагался на дне круглой впадины, формой напоминавшей миску – поддельный самоцвет в дешевой оправе. Горели немногочисленные огни, лепившиеся по большей части там, откуда доносилась музыка. Улиц на глазок было четыре: три, и под прямым углом к ним – широкая дорога, служившая главной улицей поселка. Может быть, там отыскалась бы харчевня. Стрелок сомневался в этом, но вдруг… Он снова щелкнул языком.
Вдоль дороги опять начали попадаться отдельные дома, за редкими исключениями по-прежнему заброшенные. Стрелок миновал крохотный погост с покосившимися, заплесневелыми деревянными плитами, заросшими и заглушенными буйной порослью бес-травы. Через каких-нибудь пятьсот футов он прошел мимо изжеванного щита с надписью «ТАЛЛ».
Краска так облупилась, что разобрать надпись было почти невозможно. Поодаль виднелся другой указатель, но что было написано там, стрелок и вовсе не сумел прочесть.
Когда он вошел в черту собственно города, шутовской хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном лирическом куплете «Эй, Джуд»: «Наа-наа-наа… на-на-на-на… Эй, Джуд…» Звук был мертвым, как гудение ветра в дупле гнилого дерева, и лишь прозаическое бренчание кабацкого пианино уберегло стрелка от серьезных раздумий о том, не вызвал ли человек в черном призраков заселить необитаемый поселок. От этой мысли его губы тронула едва заметная улыбка.
На улицах попадались прохожие – немного, но попадались. Навстречу стрелку по противоположному тротуару, с нескрываемым любопытством отводя глаза, прошли три дамы в черных просторных брюках и одинаковых просторных блузах. Казалось, их лица плывут над едва заметными телами, словно огромные, глазастые, мертвенно-бледные бейсбольные мячи. Со ступеней заколоченной досками бакалейной лавки за ним следил хмурый старик в соломенной шляпе, решительно нахлобученной на макушку. Когда стрелок проходил мимо сухопарого портного, занимавшегося с поздним клиентом, тот прервался, проводил его глазами и поднял лампу за своим окном повыше, чтобы лучше видеть. Стрелок кивнул. Ни портной, ни его клиент не ответили. Их взгляды ощутимой тяжестью легли на прижимавшиеся к бедрам низко подвешенные кобуры. Кварталом дальше какой-то паренек лет тринадцати, загребая ногами, переходил вместе со своей девчонкой дорогу. От каждого шага в воздух поднималось и зависало облачко пыли. По одной стороне улицы тянулась цепочка фонарей, но почти все они были разбиты, а у тех немногих, что горели, стеклянные бока были мутными от загустевшего керосина. Была и платная конюшня – ее шансы на выживание, вероятно, зависели от рейсовых дилижансов. Сбоку от зияющей утробы конюшни, над прочерченным в пыли кругом для игры в шарики, дымя самокрутками из кукурузных султанов, молча сидели трое мальчишек. Их длинные тени падали во двор.
Стрелок провел мула мимо них и заглянул в сумрачные глубины сарая. Там, в будто бы пробивавшемся сквозь толщу воды свете одной-единственной лампы, подпрыгивала и трепетала тень долговязого старика в фартуке – покряхтывая, он подхватывал вилами рыхлое сено, тимофеевку, и размашисто переносил на сеновал.
– Эй! – позвал стрелок.
Вилы дрогнули, и конюх раздраженно обернулся.
– Себе поэйкай!
– Я тут с мулом.
– С чем вас и поздравляем.
Стрелок бросил в полутьму увесистую, неровно обточенную золотую монету. Звякнув о старые, засыпанные сенной трухой доски, она ярко блеснула.
Конюх подошел, нагнулся, подобрал золотой и прищурился, глядя на стрелка. Ему на глаза попались портупеи, и он кисло кивнул.
– Ты хочешь, чтоб я приютил его. Надолго?
– На ночь. Может быть, на две. Может, больше.
– Сдачи с золотого у меня нету.
– Я и не прошу.
– Тридцать сребреников, – пробурчал конюх.
– Что?
– Ничего. – Конюх подцепил уздечку и повел мула в сарай.
– Почисти его! – крикнул стрелок. Старик не обернулся.
Стрелок вышел к мальчишкам, cидевшим на корточках вокруг кольца для игры в шарики. Весь процесс мены они пронаблюдали свысока, с презрительным интересом.
– Как играется? – общительно спросил стрелок.
Никто не ответил.
– Вы здешние, городские?
Ответа не было.
Один из мальчишек вынул изо рта загнутую под безумным углом самокрутку, свернутую из кукурузного султана, крепко зажал в руке зеленый шарик с черными прожилками – «кошачий глаз» – и пустил его в очерченный на земле круг. Шарик ударил по «ворчуну» и выбил его за черту. Подобрав «кошачий глаз», мальчишка приготовился бить снова.
– Есть в этом поселке харчевня? – поинтересовался стрелок.
Один из ребят, самый младший, поднял голову и посмотрел на него. В углу рта у мальчугана красовалась огромная лихорадка, а глаза еще не утратили простодушия. Их до краев заполняло потаенное, смешанное с интересом удивление – это было трогательно и пугало.
– У Шеба можно съесть кусок мяса.
– В вашем трактире?
Мальчонка кивнул, но ничего не сказал. Глаза его товарищей сделались недобрыми, враждебными.
Стрелок коснулся полей шляпы.
– Весьма признателен. Приятно знать, что в этом поселке у кого-то еще хватает мозгов, чтоб говорить.
Он прошел мимо них, взобрался на тротуар и двинулся в сторону центра, к заведению Шеба. За спиной раздавался чистый презрительный голос другого мальчишки – еще совсем детский дискант: «Травоед! Давно трахаешь свою сестру, Чарли? Травоед!»
Перед заведением Шеба подмаргивали три яркие лампы – одна была прибита над перекошенными двустворчатыми дверями, две других располагались по обе стороны от них. Припев «Джуда» мало-помалу затих, на пианино забренчали другую старинную балладу. Голоса шелестели невнятно, как рвущиеся нити. Стрелок на миг задержался у дверей, заглядывая внутрь. Посыпанный опилками пол, возле столов на шатких ножках – плевательницы. Дощатая стойка на козлах для пилки дров. Захватанное липкое зеркало за стойкой отражало тапера – вертящаяся табуретка придавала его спине неподражаемую сутулость. Переднюю панель пианино убрали, так что можно было смотреть, как во время игры на этом новейшем техническом достижении вверх и вниз ходят соединенные с деревянными клавишами молоточки. За стойкой стояла трактирщица, светловолосая женщина в грязном синем платье. Одна бретелька была заколота английской булавкой. В глубине помещения вяло выпивали и играли в «Глянь-ка» человек шесть городских. Еще с полдюжины местных неплотной кучкой сгрудились у пианино. Четверо или пятеро – у стойки. И рухнувший лицом на стол у двери старик с буйной седой шевелюрой. Стрелок вошел.