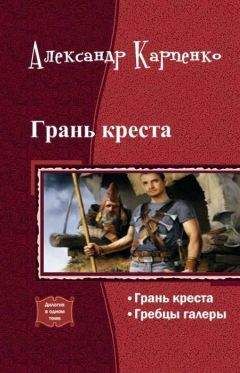Рэй Брэдбери - Тёмный карнавал (сборник)
— Ты можешь простить меня?
Упавший с ветки лист коснулся ее щеки.
— Конечно! Ты здесь, и всех этих лет нет и в помине. Пожалуйста, скажи что-нибудь еще!
Я перевел дыхание и тихо произнес:
— Я люблю тебя!
— О да! — воскликнула она. Казалось, мраморная плита сейчас расколется и женщина-ребенок вырвется из своего холодного кокона. — Теперь я понимаю, именно этих слов я и ждала! Повтори их еще раз!
— Я люблю тебя! — повторил я, и это была правда.
— Как я рада! — вновьзазвучал ее звонкий голосок. — Я знаю, что ты говоришь правду! Господи, теперь мне не страшно и умирать!
— Но ведь… — начал было я и остановился.
Ты же давно умерла, подумал я.
— О, есть ли что на свете прекраснее любви! — доносился захлебывающийся голос из глубины мрамора. — Любить — значит жить вечно, ибо любовь бессмертна! Слушать о любви никогда не в тягость, слышать признание в любви никогда не надоест! От этих слов человек воскресает снова и снова! Повтори их еще раз!
— Я люблю тебя!
Из глубины плиты донесся сердца стук, как будто Жизнь сама, стуча, рвалась наружу.
— И все-таки, — тихо сказала она, — нам нужно поговорить и о других вещах. Когда мы разговаривали с тобой последний раз?
Сто семьдесят один год тому назад, подумал я и сказал вслух:
— Очень давно. Прости меня…
— Ты исчез так неожиданно. Мне даже жить расхотелось… Наверное, ты объехал весь свет, многое повидал и забыл меня?
А вернувшись, подумал я, нашел тебя здесь и сделал этот памятник…
— Чем же ты теперь занимаешься?
— Я писатель, — ответил я, — Я хочу написать рассказ о старом кладбище, о прекрасной женщине и о возвращении пропавшего возлюбленного.
— Но при чем здесь кладбище? Пусть действие происходит в каком-то другом месте!
— Хорошо, я попробую написать иначе.
— Любимый, — спросила она тихо, — почему ты такой грустный? Позволь мне тебя утешить.
Я сел на краешек могильной плиты.
— Вот так, — прошептала она. — Теперь возьми меня за руку.
Я коснулся ее мраморной руки.
— Какие у тебя холодные руки! — сказала она. — Как же мне их согреть?
— Скажи мне те же слова!
— Я тебя люблю?
— Да.
— Я тебя люблю!.. Вот, уже теплее! И все-таки я чувствую, ты что-то от меня скрываешь… Пожалуйста, скажи мне всю правду!
— Когда-то тебе было восемнадцать, — ответил я. — Прошло больше ста лет, но тебе все те же восемнадцать!
— Но разве так бывает?
— Там, где ты находишься, нет ни возраста, ни времени. Ты навсегда останешься юной!
— Но где же я нахожусь? И что хранит меня от старости?
— Посмотри вокруг! Ты поймешь сама.
Мы молчали. Ни один луч солнца больше не освещал кладбище Пер-Лашез. Падали листья. Тихий стук сердца стал еще тише, как и ее голос, когда она заплакала.
— О нет! Неужели это правда?
— Да, это правда.
— Но ты пришел, чтобы спасти меня!
— Нет, милая Диана де Форе. Я хотел лишь повидаться с тобой.
— Ты говорил, что любишь меня!
— Видит Бог, это правда!
— Так в чем же дело?
— Ты так ничего и не поняла. Ты принимаешь меня за другого. А я мечтал встретиться с тобой всю свою жизнь!
— Это правда?
— Да!
— Выходит, ты ждал нашей встречи все эти годы, как ждала я?
— Выходит, так.
— Ты рад, что ждал?
— Теперь да. Хотя до этого мне было очень-очень одиноко…
— А теперь?
— Ты знаешь, сколько мне лет?
— Какое это имеет для нас значение?
— Мне уже семьдесят три.
— Так много?
— Увы…
— Но у тебя такой молодой голос!
— Это потому, что я говорю сейчас с тобой…
Я услышал какие-то странные звуки. Она плакала? Я ждал и слушал.
— Милый мой, хороший мой, — сказала она наконец, — как все это странно… Такое чувство, будто мы сидим на качелях. Если я поднимаюсь, ты опускаешься, если я опускаюсь, ты поднимаешься. Неужели мы так никогда и не встретимся?
— Разве что здесь, — ответил я.
— Значит, когда-нибудь ты сюда вернешься? Ты больше не исчезнешь?
— Нет. Я обещаю.
— Подойди поближе, — прошептала она. — Мне трудно говорить.
Я наклонил голову, и мои слезы вновь упали на ее мраморное лицо.
— Знаешь, — сказала она окрепшим голосом, — пока твои слезы дарят мне силы говорить, самое время…
— Проститься?
— Ты говоришь, тебе семьдесят три? А ждет ли тебя кто-нибудь там, за оградой?
— Нет. Меня давно уже никто не ждет.
— Значит, ты действительно вернешься и снова будешь плакать…
— Буду.
— Приходи поскорее. Нам нужно поговорить об очень многом.
— О смерти?
— Конечно нет. О Вечности, любимый мой. Ты тут же перестанешь плакать. Я расскажу тебе все-все. До встречи.
Я поднялся.
— Прощай, Диана де Форе.
Упавший лист заслонил ее лицо. Прощай.
Я поспешил к воротам и кликнул охранников, не зная, чего мне хочется больше: выйти за ограду кладбища или же остаться на нем навсегда.
Охранники появились вовремя. Они открыли мне ворота.
Собиратель
© Перевод О. Акимовой
Мы встретили собирателя — так он сам себя называл — на корабле, где-то посреди Атлантики, летом 1948 года.
Адвокат из Скенектеди, хорошо одетый, он настоял на том, чтобы угостить нас выпивкой, когда мы случайно встретились с ним перед ужином, а затем уговорил нас сидеть за обедом с ним, а не за нашим обычным столиком.
Во время еды он без конца говорил, рассказывая удивительные истории, ужасно смешные анекдоты, и казался нам человеком веселым, жизнелюбивым и знающим во всем толк.
Он ни разу не дал нам вставить даже слово, и мы с женой, заинтригованные, нарочно не раскрывая рта, увлеченно слушали, как этот занятный человек описывает свои путешествия по миру, с континента на континент, из страны в страну, из города в город, как он собирает книги, строит библиотеки и отводит на этом душу.
Он рассказал нам, как, услышав о знаменитой коллекции книг в Праге, провел чуть ли не месяц, колеся по миру на кораблях и поездах, чтобы найти, купить эту коллекцию и привезти ее в свой огромный дом в Скенектеди.
Он бывал в Париже, Риме, Лондоне и Москве и привозил домой десятки тысяч редких томов, которые ему позволяла приобрести его адвокатская практика.
Когда он говорил об этом, его глаза блестели, а лицо наливалось румянцем, какой не могли бы разжечь никакие крепкие напитки.
Адвокат этот не был похож на хвастуна — он просто описывал, как картограф, рисующий план местности, карту тех мест, событий и времен, о которых он не мог не рассказывать.
Во время всего разговора он не заказывал таких блюд, которые могли бы отвлечь его внимание. Он почти не притрагивался к огромной тарелке салата, стоявшей перед ним, что позволяло ему говорить и говорить без конца: он лишь иногда запихивал в рот полную ложку и, проглотив, снова принимался описывать города и коллекции книг, разбросанные по всему миру.
Каждый раз, когда мы с женой пытались встревать между его излияниями, он махал на нас вилкой и закрывал глаза, чтобы мы замолчали, а с его губ уже сыпались восторги по поводу очередного чуда.
— Вам знакомы работы сэра Джона Соуна, великого английского архитектора? — спрашивал он. И прежде, чем мы успевали ответить, тараторил: — В своих фантазиях и в рисунках, сделанных в соответствии с его техническими требованиями его другом-художником, мистером Гинти, он перестроил заново весь Лондон. Некоторые из его фантазий о Лондоне были действительно воплощены, другие были построены и затем разрушены, а третьи так и остались всего лишь плодом его невероятного воображения.
Я отыскал некоторые из его проектов библиотек, привлек к работе внуков тех инженеров-архитекторов, что работали с Соуном, и построил на принадлежащем мне участке, если можно так выразиться, университет в стиле стипль-чез. В многочисленных зданиях, выстроенных на этих просторных угодьях на окраине Скенектеди, я дал приют великим светилам просвещения.
Прогуливаясь по травяным лугам, а лучше — и гораздо романтичнее — скача верхом от лужайки к лужайке, вы оказываетесь в самой большой в мире библиотеке медицинских наук. Я говорю так, потому что нашел эту библиотеку в Йоркшире, купил все десять тысяч томов и морем перевез к себе, чтобы она надежно хранилась в моих руках и под моим чутким присмотром. Великие врачеватели и хирурги приезжали ко мне и жили в этой библиотеке, проводя там дни, недели или даже месяцы.
Кроме того, в других зданиях моего поместья расположены небольшие библиотеки-маяки, в которых собраны лучшие романы со всего света.
А еще есть итальянский утолок, при виде которого Бернард Беренсон, выдающийся историк итальянского искусства эпохи Ренессанса, от зависти потерял бы сон.