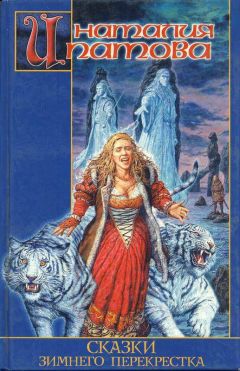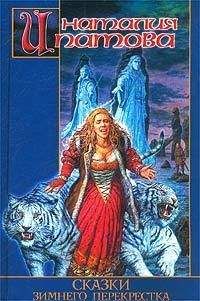Наталия Ипатова - Сказка зимнего перекрестка
На них накатывала масса желтовато-песочных тел, блестящих, лоснящихся от пота, светлые нестриженые хвосты и гривы взметались, как вымпелы, особенно в этот миг Власер оказался неравнодушен к тяжести и мощи ударявших в землю копыт. Разделяющее их пространство они пожирали, как греческий огонь. Погонщики заметили людей и запоздало кричали, чтоб они убирались с дороги. Надо отдать им должное, они делали, что могли, однако же никто не осудил бы их за то, что им тоже не хотелось быть растоптанными. Это была самая последняя смерть, какой бы Власеру хотелось умереть.
Он видел уже их обезумевшие глаза и пену на мордах. Он сам, наверное, в этот миг походил на загнанную лошадь, он втянул голову в плечи, сгорбился и закрыл лицо руками… Это будет больно.
Больно не стало ни с этим ударом сердца, ни со следующим. Вокруг грохотала земля, бешено, торжествующе ржали эти гладкие гривастые соловые твари, в унисон со всем этим бушевала в висках его собственная кровь, но больно не было. И по-прежнему тяжесть железных колец безошибочно указывала направление к центру Земли. Он рискнул взглянуть.
Сплошной поток табуна распался на два русла, словно обтекая скалу. И этой скалой был он сам. Он стоял посреди этой лавы, как остров, а кони, набегая, шарахались в стороны и проносились мимо, мимо, мимо…
Потом грохот отдалился, погонщиков, глядящих на это чудо дикими глазами, тоже унесло прочь. Они все же были при деле. Власер оглянулся, вспомнив, что вроде был не один.
Марк стоял в нескольких шагах, мордой в грудь ему тыкался высокий нервный трехлеток, еще в пене, еще с полубезумными закаченными белками. Ласковая, укротившая Льдинку ладонь, успокаивая, оглаживала дрожащего коня.
— Он сам меня выбрал, — сказал Марк. — Он ради меня от табуна отстал. Значит, будем вместе.
Власер подумал, что надо бы заказать еще колечко.
8. Что они с вами сделали?
— Ой, кто это?! — Агнес против воли улыбалась во весь рот. — Марк, вы еще смели утверждать, будто не кавалер. Как вам живется?
— Мне не на что пожаловаться, мадемуазель.
При этих словах она встревожилась. Наверное, именно таким тоном принцесса на горошине сообщала, что превосходно спала всю ночь.
— Марк, — спросила она, — вас обижают?
— Наверное, — сказал он, — дело не в них. Я не гожусь для людского общества.
Агнес опустила глаза и с трудом сглотнула. Это было очевидно с самого начала. На его фоне люди должны казаться друг дружке, да и самим себе, просто отвратительными. Тому, что она устроила его в этот вертеп — она имела в виду казарму, — было лишь одно оправдание. Она полагала, что это временно.
— Вы сможете привыкнуть? — жалобно спросила она.
— Я постараюсь, мадемуазель.
— Марк, я бы хотела знать, кто вы на самом деле.
— Я сказал бы вам, если бы знал.
Они помолчали. Разговор они вели на лестнице, спускавшейся на военный двор. Марк, как и положено, стоял на несколько ступеней ниже, так что они с Агнес по росту были глаза в глаза. Похорошел-то как, стыдливо подумала она. Кто-то его ловко и здорово подстриг, темные волосы, словно тронутые инеем, теперь едва достигали плеч, челка приоткрывала длинные брови. Она не сделала бы лучше, видит Бог, ей хотелось попробовать. Был бы он так же хорош, если бы не резкие тени под скулами и вокруг глаз, красноречиво свидетельствующие о том, что он плохо спит? Агнес мучительно захотелось сделать для него что-нибудь не только на словах. Какая жалость, что она не может ничем его выделить. Отец слишком недвусмысленно дал понять, что она вольна забавляться лишь в тех пределах, которые не допускают пересудов. Она не могла даже руки его коснуться. Всеми фибрами ощущалось внимание окружавших, будто бы поглощенных своими делами, к беседе «маленькой мадемуазели» с молодым и красивым — теперь уж всем видно, каким красивым! — ратником. Единственное спасение от злых языков она находила в том, чтобы и виду не подать, будто ее внимание можно истолковать каким-либо недостойным образом. Ведь всем известно, что она действует с санкции папеньки!
Уж если в чем ей Марк и помогал, так только в этом. Ее до судорог пугала мысль, смогла бы она удерживать взятый тон, если бы он хоть как-то дал понять, что она ему нравится. Не она с ним, а он бы с нею играл. Он был всего лишь вежлив, но — тою вежливостью, какая не позволяла причислить его ни к одной категории простолюдинов. Той, что позволила ей заподозрить в нем голубую кровь и белую кость, что с каждой новой минутой разговора делала крепче ее уверенность. И все же он явно выделял ее из прочих. Уже хотя бы потому, что хоть немного, но говорил с ней о себе. Соглашался принять ее помощь, хотя ни о чем не просил.
Она вновь глянула в его измученное лицо и устыдилась. А чего бы она хотела? Ведь она же знала, как он умен, а главное — чуток. Он не хуже нее знал, что оказался в ее власти, что она могла шутя сломать его, сказав лишь: «Какая жалость!» Очень ли это ему, такому гордому, по вкусу? И это все к тому, что сама она не обладала и сотой долей его совершенств. Лишь в собственном достоинстве она могла с ним сравниться. Так как насчет достоинства, душечка Агнес?
Агнес бросила взгляд с лестницы во двор. Там с азартом молодых животных вовсю возились с военными упражнениями молодые ратники. Старшины приглядывали, чтобы молодежь не отлынивала. Они от души валяли друг дружку в растоптанном снегу, матерясь даже без мысли приглушить голос, и плевать им было на присутствие барышни. На безупречно голубом небе бешено сверкало солнце. Какой резкий ветер сегодня! Она чувствовала, как горят ее щеки. От ветра ли только? Почему же у Марка в лице ни кровинки?
Ему необходимо иметь хоть несколько минут уединения. Ему нужна тишина, иначе он не протянет долго. Иногда очень хочется покоя пасмурного неба. И, как ей казалось, она нашла здесь некий вариант решения.
— Я хочу вас кое с кем познакомить, — сказала она. — Если бы вы захотели, может быть, это помогло бы нам сделать хоть какие-то шаги для установления вашей личности.
— Если вы полагаете, что это нужно… — покорно сказал Марк.
Ей захотелось расплакаться. Марк явно не желал знакомиться с кем бы то ни было еще. Он уже и знать ничего не хотел. Он просто смертельно устал.
— Идите за мной, — велела она, пользуясь своей властью приказывать. — Я покажу вас Локрусту.
Эта комната была слишком велика для его маленького тела. Она вмещала в себя слишком много пугавших его внезапных звуков. Сам крохотный, тщедушный, белесый, болезненно хрупкий, он безотчетно старался еще съежиться, стать ничем, всего лишь дрожанием воздуха, неуловимым «зайчиком» на каменной стене. Он любил свою работу, он не имел на этом свете ничего, кроме нее, да, может быть, жалких остатков изломанной жизни. Тому, что он делал, он предавался со страстью юного влюбленного… или безумца. Впрочем, он не был уверен в том, что не безумен.
Две узкие вертикальные бойницы прорезали восточную стену его комнаты и давали достаточно света, именно такого, в каком он нуждался: на пути сквозь толщу камня беспощадные лучи рассеивались, подергивались мягкой пыльной дымкой. Он бы не вынес прямого света, как не выносил повышенных голосов, резких движений, лязга железа и прочих бурных проявлений агрессивных форм жизни.
Сейчас он ждал, забившись в угол и недоверчиво поглядывая вдоль столов, в кажущемся беспорядке уставленных тиглями и жаровенками, ступками и горшочками и даже дорогими стеклянными колбами и ретортами. Вдоль стен на полках громоздились банки со снадобьями, изготовлением которых он усердно занимался, пока снег не укрыл землю. Пахло сухой пылью и смесью трав. В тщательно запертом, окованном железом сундуке, на котором он сейчас сидел, он хранил книги. Все это, скопившееся за двадцать с лишним лет, стояло так тесно друг к другу, что было непонятно, как вообще тут ходить. Однако сам он проскальзывал здесь, шумя не больше, чем мышь, на которую, честно говоря, он изрядно смахивал. Его вполне устраивало то, что его убежище и обиталище пользуется у основной невежественной массы обитателей замка д’Орбуа репутацией проклятого места, где совершаются ужасные богопротивные обряды. Благодаря этому к нему меньше совались, хотя, конечно, никакие страхи не могли удержать замковых прислужниц, когда они остро нуждались в приворотном зелье. Нет-нет, и постучит в дверь неуклюжий ратник, испрашивая придающий силы или неуязвимость амулет, Локруст никому не отказывал. Он не смел смеяться им в лицо, зная, что стоит лишь поколебаться благосклонности герцога, как все те, кому он услужал, станут самыми искренними его гонителями и палачами. Он не смеялся над ними и наедине с собой, должно быть, потому, что разучился смеяться, а может, никогда не умел.
Он полагал, что может судить об этом. Сколько хворей он исцелил, сколько принял безнадежных родов, он потерял и счет, он не брал платы, облегчая страдания из робкой надежды, что за это они будут с ним добры, однако люди никогда не поверят в то, что ты не причиняешь им зло, если они считают тебя в силах делать это.