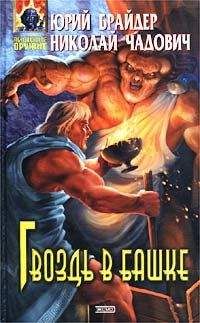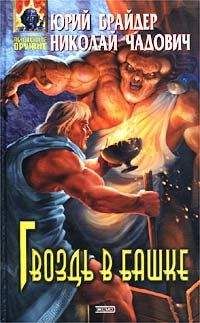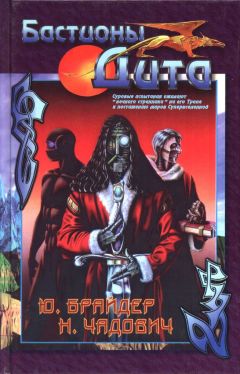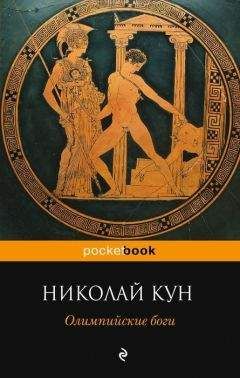Гвоздь в башке - Чадович Николай Трофимович
– А на Крите?
– Сейчас узнаем, – купец высунулся из лавки чуть ли не по пояс. – Эй, Антилох, кто правит у вас на острове?
Когда я уезжал, правил царь Минос, да продлят боги его дни и умножат потомство, – раздалось в ответ из ближайшей лавки.
Тут уж я возликовал. Вот так попадание! Прямо в яблочко. Такой шанс упускать нельзя. Даже если ради этого придется вселиться в самого дьявола.
…Затем я полностью уступил инициативу Хишаму, избрав для себя уже привычную роль стороннего наблюдателя.
Отбросив разделявшую нас пропасть лет (и, соответственно, разницу в образовании и кругозоре), следовало признать, что предок превосходит меня во всем, а особенно в умении отстаивать свои интересы. К сожалению, все его несомненные достоинства уживались с полной аморальностью и отсутствием каких-либо внутренних тормозов.
Хишам без зазрения совести брал все, что ему нравилось, и горе было тому, кто пытался этому помешать. За ним уже давно тянулся шлейф многочисленных преступлений, но самое дерзкое из них – убийство одного из приближенных царя – переполнило чашу терпения вавилонских властей.
Все подручные Хишама были схвачены и подвергнуты пыткам. В местах, где он мог появиться, ожидали засады. Вознаграждение, объявленное за его голову, могло склонить к предательству даже лучших друзей.
Эти сведения я буквально по крупицам добыл из сознания предка за те двое суток, которые он провел в глубокой сырой яме, заваленной сверху тюками с овечьей шерстью. Вместе с ним в яме обитали крысы и ядовитые насекомые.
Отказа в вине и хорошей пище не было, но спал Хишам вполглаза и нож, который ему все же удалось отстоять, всегда имел под рукой.
На третий день снаружи раздались скорбные вопли верблюдов и ржание лошадей. Началось снаряжение каравана, отправлявшегося к Средиземному морю.
После полудня в яму спустился купец – не болтливый Диномах, а молчаливый Клеодем. Пользуясь больше знаками, чем словами, он велел Хишаму опорожнить мочевой пузырь и кишечник, потом напоил каким-то горьковатым снадобьем и вывел на поверхность. Ноги предка начали заплетаться уже через полсотни шагов, а сознание отрубилось прежде, чем он увидел свет солнца. Дурман, естественно, подействовал и на меня, но не в такой мере.
Смутно помню, как тело Хишама заворачивали в ковер, переложенный изнутри толстыми бычьими шкурами (делалось это, наверное, на тот случай, если стражникам вздумается протыкать все ковры острыми спицами). Окончательно я обеспамятовал уже после того, как ковер взвалили на верблюда и началась качка, сродни той, которую я однажды уже испытал на невольничьем судне.
Таким образом, все перипетии, связанные с досмотром груза конфликтами со стражей и долгим отстоем у запертых городских ворот, миновали меня.
Очнулся Хишам (а вместе с ним и я) уже далеко за городом. Ночью, на стоянке, купцы немного развернули ковер, дабы дать беглецу вволю надышаться. Опасность еще не миновала – караван сопровождало множество всякого люду, среди которого могли оказаться и царские соглядатаи.
Сказать, что такой способ путешествия мучителен – значит ничего не сказать. Даже привычный к лишениям Хишам едва сдерживал стоны, а моя измученная душа так и рвалась прочь из этого еще более измученного тела.
Желанную свободу Хишам обрел лишь после того, как караван покинул пределы Вавилонского царства. Честно расплатившись с купцами (что, в общем-то, было ему несвойственно), предок тут же приобрел прекрасного верхового коня и дальше следовал со всем возможным в таких условиях комфортом.
Караван был огромен – сотни верблюдов, тысячи лошадей, сторожевые собаки, до зубов вооруженная охрана, стада овец, выполнявших роль живых консервов. Короче, целая армия, каждую ночь разбивавшая близ дороги укрепленный лагерь. Путь, который можно было проделать за пару недель, растягивался на месяцы, поскольку крейсерская скорость каравана равнялась скорости самого медлительного верблюда.
И тем не менее никто не рвался вперед, даже обладатели горячих гирканских скакунов. Безопасность путешественников зиждилась именно на многочисленности и сплоченности каравана, вокруг которого беспрестанно кружили шайки грабителей.
По пути к нам прибилось немало случайных попутчиков – беглых рабов, отставных солдат, бродячих жонглеров, странствующих проповедников, блудниц, прорицателей, мелких воришек и просто непоседливых людей, желавших испытать свое счастье на чужбине.
Вся эта мелкая шушера ничуть не интересовала Хишама. Он присматривался только к купцам – не к тем, кто, подобно Диномаху и Клеодему, был отягощен заморским товаром, – а к другим, которые возвращались налегке, имея при себе только тугую мошну с золотом и драгоценностями.
Как ни скрытен был Хишам, но обвести вокруг пальца проницательного Диномаха не сумел. Тот прямо предупредил беглеца, что если кто-либо из купцов вдруг лишится в пути нажитого богатства, то с поисками злодея проблем не возникнет. Дескать, прошлые твои дела никого не касаются, а здесь, будь любезен, веди себя пристойно. Купцы, конечно, народ корыстолюбивый и завистливый, но в дальнем походе, сопряженном с опасностями, привыкли стоять друг за друга стеной, иначе там, где пропал один, могут найти свой конец и остальные.
После этого неприятного разговора Хишам перестал общаться с купцами, хотя по-прежнему харчился с их стола, что входило в заранее оговоренную плату за спасение. Он и раньше не питал к грекам никаких теплых чувств, а уж сейчас затаил на них настоящую ненависть, для реализации которой не хватало лишь удобного случая.
Нормальных людей, к числу которых я отношу и себя, всегда интересовала психология злодеев (возможно, именно в этом кроется столь широкая популярность детективных романов).
Что заставляет обычного на вид человека преступить ту фатальную грань добра и зла, к которой другие даже не смеют приблизиться? Почему он так равнодушен к чужим страданиям и чужой жизни? По какому праву отвергает все человеческие и божеские законы? Где находит оправдание своим неблаговидным поступкам?
И что, в конце концов, движет преступником – гипертрофированный эгоизм, душевная черствость или некий слепой атавизм, доставшийся нам в наследство от звероподобных пращуров? Можно ли этих каиновых детей вернуть в лоно человеческого общества? И как – страхом, лаской, специальным лечением, перевоспитанием?
Вот почему личность Хишама представляла для меня особый интерес. Однако все способы, которые прежде легко позволяли, что называется, «влезть в душу» предков, чьи тела я использовал, на сей раз оказались малоэффективными.
Упреки совести, провоцируемые мной, не доходили до сознания Хишама, а все попытки отвратить его от зла ни к чему хорошему не приводили. Человек, как говорится, погряз в пороках целиком и полностью. Исправить его, наверное, могла только могила.
Все это грозило мне в будущем серьезными проблемами. Такого злодея нельзя вводить в дом доверчивого и мнительного царя Эгея, а уж тем более посылать с весьма деликатной миссией на Крит. Да он просто изнасилует всех юношей и девушек, вверенных его попечению, а потом продаст их первому встречному работорговцу.
Для выполнения великого исторического предназначения, то есть для устранения Минотавра, нужен совсем другой человек – или камикадзе типа Васьки Лодырева, или тюфяк вроде Шлыга. В крайнем случае я мог бы обтяпать это дельце и в одиночку. Отсюда следует, что мне нужно подавить разум Хишама, сломить волю, отстранить сознание от власти над телом, а в идеальном случае – вообще уничтожить его как личность. История учит, что на свете не бывает неприступных твердынь, точно так же, как и несгибаемых характеров. Уж если я не одолею Хишама (а по сути самого себя), то за Минотавра даже браться не стоит.
Однако время пока что терпело, и я ограничивался изучением противника, старательно выискивая в его психике уязвимые места. Таковых было немного, а лучше сказать, почти не было вообще, и постепенно я стал склоняться к опыту большевиков – «в первую очередь захватить телеграф, телефон, мосты», то бишь средства коммуникации, роль которых у человека по преимуществу выполняют органы чувств. Если, к примеру, вовремя лишить врага зрения, то он с перепугу согласится принять любые условия победителя (хотя представить себе перепуганного Хишама было весьма и весьма нелегко).