Древняя Земля - Жулавский Ежи
Храм весьма смахивал на ярмарочный балаган; его заполняли цивилизованные и богатые варвары со всех концов света. Они плавали в неаполитанских барках, моторных лодках, черных венецианских гондолах, сновали по святотатственно подвешенным к стенам и колоннам металлическим галереям, отираясь локтями о древние иероглифы и изображения богов, которых много десятков столетий назад вырезали в камне и которые теперь стояли по колено в воде, что затопила их священный остров.
Яцек в неприметном дорожном костюме, не привлекая ничьего внимания, лавировал между лодками, направляясь вглубь сквозь становившийся все более густым лес колонн, покрытых резьбой и увитых у верхушек венками искусственных электрических огней.
В последнем зале ламп не было. Под сохранившимся с древних времен перекрытием — гранитными блоками, лежащими на лотосах, которыми завершались колонны, — струился голубоватый переливающийся полусвет, словно застывшая и плененная летняя зарница, разливаясь во все стороны от головы таинственной богини. В этой части храма у пьедестала изваяния вода была не так глубока и тоже насыщена волнами голубого света; она казалась каким-то сказочным водоемом, где бьет волшебный источник.
И в этом свете высилось огромное черное изваяние Исиды с поднятой рукой, с замершими приоткрытыми устами, на которых словно застыло тысячелетия назад слово неизреченной, до сих пор остающейся непостижимой тайны.
А у ног статуи на огромном искусственном листе лотоса стояла женщина. Ее светлые волосы были спрятаны под полосатым, как у египетской богини, платом; голову венчала тиара, украшенная в навершии птичьей головой и солнечным диском. Тонкие плечи были закутаны в серебристый газ, бедра завернуты в тяжелую жесткую ткань, стянутую поясом, который скреплял громадный бесценный опал. Из-под ткани выступали белые обнаженные ноги с золотыми браслетами на лодыжках, точно такими же, какие были на запястьях воздетых рук.
Увидев, с каким вожделением пялится на нее толпа, Яцек опустил глаза и стиснул зубы.
Аза пела, сопровождая пение чуть заметными волнообразными движениями плеч и бедер. Пела странную ритмичную песню о богах, которых уже много тысячелетий никто не почитает.
Пела о борьбе света и тьмы, о высшей мудрости, сокрытой непроницаемой тайной, о Жизни и Смерти.
Пела о героях, о крови, о любви…
Скрытый оркестр, казалось, звучал где-то в истекающей светом глубине, и гармоническая музыка послушно следовала за голосом певицы, дрожа, словно в священном ужасе, когда та повествовала о таинстве возрождения к жизни, вторила ей бурей звуков, когда она славила победоносных светозарных героев, шептала тихо, пламенно, самозабвенно, когда Аза пела о блаженстве и сладости любви.
Она пела в полуразрушенном, подмытом водой храме Исиды, окруженная блистательной толпой, которая не верила ни в богов, ни в героев, ни в жизнь, ни в смерть, ни в любовь, а пришла сюда только потому, что то было неслыханное, небывалое событие — концерт в древнем храме, и его давала знаменитейшая, прославленная Аза, а еще потому, что за вход нужно было выложить сумму, которой бедняку хватило бы на год жизни.
Немного здесь было таких, кто пришел ради великого искусства артистки и теперь наслаждался ее дивным выразительным голосом, колдовски воссоздающим то великое, что было, но минуло и теперь почти забыто. Зрители, в основном, глазели на ее лицо, на обнаженные колени и плечи, мысленно подсчитывали стоимость немногих, но безмерно дорогих украшений и с нетерпением ждали, когда она кончит петь священные гимны и начнет танцевать перед толпой.
Но понемногу начало свершаться чудо. Певица трогала голосом людские души, сокрытые глубоко в утробах, и пробуждала их. Раскрывались доселе незрячие глаза, и души, потрясенные тем, что они существуют, что живы, начинали вибрировать в такт собственного напева… То один зритель, то другой вдруг прижимал руки к груди и словно бы впервые разверзшимися очами ловил странные, спавшие в мозгу воспоминания, полученные в наследство от многих и многих поколений, и под воздействием певицы ему краткий миг мнилось, будто он и впрямь предан богине и готов идти на битву за свет, как только призовут его эти уста — царственные, обольстительные, властные. И тогда обострившимся слухом человек ловил каждый звук ее голоса, самозабвенно следил взглядом за каждым движением ее почти нагого тела. В короткие перерывы, когда она прекращала петь и только кружилась в священном танце, колышась в такт ритму, который подавала ей откуда-то из глубин умолкающая музыка, такая тишина наполняла бывший храм, что был слышен легкий-легкий плеск волн, что долгими десятилетиями неутомимо подмывали колонны и слизывали вырезанные в граните таинственные знаки.
Яцек медленно поднял глаза. Свет незаметно переходил из голубоватого в фиолетовый и почти сразу же в кроваво-пламенный; яркие лучи, блуждавшие под потолком, неизвестно когда погасли; только вода пылала — как море холодного огня, да какие-то застывшие молнии вспыхивали за изваянием Исиды, которое на этом фоне стало еще черней и, казалось, увеличилось, выросло. В темноте уже была неразличима таинственная улыбка прекрасных уст богини; только рука, поднятая на высоту лица, все тем же мягким, сдержанным жестом то ли тщетно призывала к молчанию, то ли подавала некий знак, который уже многие тысячелетия никто не был способен ни понять, ни истолковать.
На какое-то мгновение Яцеку почудилось, будто на темном лице богини он видит живые глаза, обращенные к нему. И не было в них ни гнева, ни возмущения этими людьми, что устраивают развлечения в месте, которое некогда соорудили для свершения величайших таинств, не было сожаления по давнему поклонению, не было печали, что храм разрушается; в этом взгляде читалось лишь непостижимое, уже десятки веков длящееся ожидание человека, который придет сегодня… завтра… через столетие… через тысячу лет, покорится жесту богини, требующему молчания, и воспримет из ее уст высшую тайну.
Исида с высокого трона не видит разрушения, постигшего все вокруг, не видит толпы, не слышит шума, криков, пения, как, наверное, некогда не видела смиренных паломников, молчаливых жрецов, не слышала молитв, просьб, гимнов. Она смотрит вдаль, жестом велит молчать и ждет…
Идет ли? Близок ли тот, долгожданный?
И придет ли он когда-нибудь?
Но в этот миг Яцек вздрогнул от вдруг вспыхнувшего яркого света и голоса вновь запевшей Азы. Аза пела теперь об утраченном божественном возлюбленном Осирисе, передавая голосом и движениями самозабвенного танца сладость и упоение любви, страсть, тоску и отчаяние.
Яцек вздрогнул; он отвернулся, чувствуя, как лицо его заливает краска непонятного стыда. Он хотел вспомнить улыбку и только что виденные мысленным взором глаза богини, но вместо этого в воображении упрямо оставалось пойманное боковым зрением движение грудей танцовщицы и ее по-детски маленькие полуоткрытые влажные губы. Жаркая волна ударила ему в голову; он поднял веки и вызывающе, страстно, забыв обо всем, всматривался в Азу.
А ее белые плечи трепетали, и трепет пробегал по всему телу от головы до ног, когда с уст, словно набухших от желания и еще болящих после поцелуев, лилась песнь о божественном Осирисе, о сладости его объятий и о пламенном, жизнь отнимающем обладании. Рухнули чары, державшие людей в заколдованном круге. Души, наполовину выглянувшие из тел, мгновенно укрылись в них, как прячутся в дупла деревьев малые лесные зверьки; люди уже не могли слушать иначе, как сладострастными нервами, возбуждающими застывшую кровь. Глаза их мутнели, кривились губы в похотливой улыбке, в горле щекотало от вожделения.
Теперь толпа стала хозяином, а певица — купленной ею рабыней, которая за деньги обнажает плечи и грудь, под видом искусства за деньги позволяет прикасаться к себе липкими, нечистыми мыслями и выставляет на всеобщее обозрение тайны своих чувств.
Яцек невольно поднял глаза на лицо богини; как прежде, оно было невозмутимо, в нем чувствовалось ожидание, и непостижимая улыбка таилась на устах.
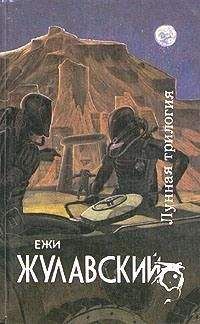
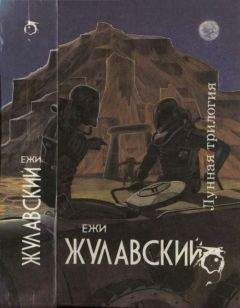


![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](/uploads/posts/books/60504/60504.jpg)