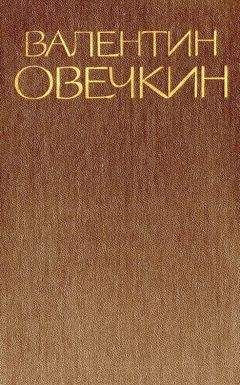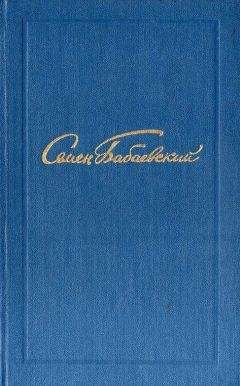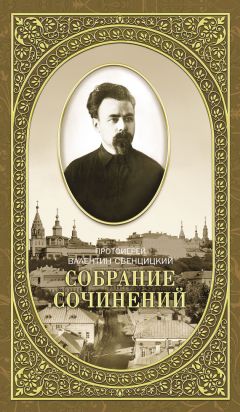Эрнст Гофман - Собрание сочинений. Том 1
Теперь, нежная подруга, ты можешь ясно себе представить мое счастливое состояние, вызванное высокой моей образованностью. Но могу ли я скрыть от тебя хоть малейшую сердечную заботу? Могу ли я умолчать о том, что совершенно неожиданно со мною случаются известного рода припадки и выводят меня из блаженного покоя, услаждающего мои дни? Праведное небо, какое огромное влияние оказывает на всю нашу жизнь воспитание в ранние годы жизни! Справедливо утверждают: трудно искоренить то, что ты всосал с молоком матери. Какой вред нанесло мне дикое скаканье по горам и лесам! Недавно, изысканно одетый, я гулял по парку с друзьями. Останавливаемся перед великолепным, высоким, стройным ореховым деревом. Непреодолимое желание затуманивает мой рассудок… Несколько ловких прыжков — и я на самой верхушке, качаюсь на ветках и рву орехи. Мой отчаянный поступок встречен возгласами удивления присутствующих. Когда я, вспомнив о приобретенной культуре, которая не дозволяет подобной несдержанности, спустился вниз, один молодой человек, очень меня уважающий, сказал: «Э, милейший господин Мило, какие у вас проворные ноги!» Мне было очень стыдно. Иногда я с трудом превозмогаю желание показать свою ловкость и поупражняться в метании. Представь себе, милая малютка, что недавно за одним званым ужином это желание столь властно овладело мною, что я вдруг швырнул яблоко на другой конец стола и попал в парик сидевшего там коммерции советника, старого моего покровителя, что навлекло на меня тысячу неприятностей. Все-таки я надеюсь понемногу освободиться от этих пережитков прежнего дикого состояния.
Если ты еще не настолько овладела культурой, нежная моя подруга, чтобы прочесть это письмо, то пусть благородный, уверенный почерк твоего возлюбленного побудит тебя научиться читать. Тогда содержание этих строк послужит тебе мудрым наставлением, как за это дело приняться и как достичь душевного покоя и удовлетворения, кои способна породить только высокая культура, а она, в свою очередь, приобретается благодаря врожденному уму и общению с образованными и мудрыми людьми. Тысячу раз шлю тебе привет, дорогая подруга.
Не верь, что солнце ясно,
Что звезды — рой огней,
Что правда лгать не властна,
Но верь любви моей.[301]
Твой верный до гроба
Мило,
бывшая обезьяна, ныне частный артист и ученый.
5. Враг музыки[302]
Как чудесно, когда человек до такой степени весь проникнут музыкой, что, словно вооруженный нездешней силой, легко и весело овладевает самыми громоздкими музыкальными сооружениями, построенными композитором из бесчисленного количества нот и звуков разнообразнейших инструментов, воспринимает эту музыку умом и рассудком, но без особого душевного волнения, без всяких болезненных приступов страстного восторга и душераздирающей тоски. Как горячо может он тогда восхищаться виртуозностью исполнителя и даже без опаски громко выражать эту рвущуюся наружу радость. О великом счастье самому быть виртуозом лучше не думать, иначе я еще сильнее начну горевать о том, что совершенно лишен способностей к музыке, отчего и проистекает моя невероятная беспомощность в этом дивном искусстве, к сожалению выказанная мною с самого детства.
Отец мой несомненно был хорошим музыкантом. Зачастую он просиживал за большим роялем до глубокой ночи, и когда в нашем доме устраивались концерты, он играл очень длинные вещи, а другие кое-как ему аккомпанировали на скрипках, контрабасах, флейтах и валторнах. Когда доигрывали одну из таких длинных пьес, все очень громко кричали: «Браво, браво! Какой прекрасный концерт! Какое совершенное, искусное исполнение!» — и с благоговением произносили имя Эммануила Баха[303]. Однако отец всегда так гремел и барабанил, что мне казалось, будто это вовсе не музыка, — она представлялась мне трогательной мелодией, — будто отец играет просто ради забавы и другие тоже забавляются. В таких случаях меня всегда одевали в праздничное платье, я сидел на высоком стульчике рядом с матерью и слушал, стараясь не шевелиться. Время тянулось невыносимо медленно; я бы не мог этого выдержать, если бы меня не развлекали странные гримасы и смешные движения музыкантов. Особенно хорошо запомнился мне один старый адвокат, который всегда сидел рядом с отцом и играл на скрипке; говорили, что он необычайный энтузиаст, что музыка доводит его до умопомешательства, что гениальные произведения Эммануила Баха, Вольфа, Бенды вызывают у него безумную экзальтацию и потому он не попадает в тон и не держит такта. Этот человек и сейчас стоит у меня перед глазами. Он носил сюртук цвета сливы с золочеными пуговицами, маленькую серебряную шпагу и рыжеватый, слегка напудренный парик, на конце которого болтался маленький кошелек. Адвокат все делал с неописуемой комической серьезностью. «Ad opus!»[304] — любил он восклицать в тот момент, когда отец расставлял на пюпитрах ноты. Потом брал скрипку правой рукой, левой снимал парик и вешал его на гвоздь. Играя, он все ниже и ниже склонялся к нотам; красные глаза его сверкали и выкатывались из орбит, на лбу выступали капли пота. Случалось, что он кончал играть раньше остальных, чему крайне удивлялся, и очень злобно на всех поглядывал. Мне часто казалось, что скрипка его издает звуки, похожие на те, которые соседский Петер, испытывая с естественнонаучной целью музыкальные способности кошек, извлекал из нашего домашнего кота, ловко прищемляя ему хвост, за что и бывал бит отцом (я разумею Петера). Словом, сливоцветный адвокат — звали его Музевий — вполне вознаграждал меня за смирное сидение: меня крайне забавляли его гримасы, смешные прыжки и даже его пиликанье.
Однажды он произвел настоящий переполох. Все бросились к нему, отец выскочил из-за рояля, — думали, что с адвокатом страшный припадок: дело в том, что он сначала стал слегка трясти головой, потом в нарастающем crescendo продолжал дергать ею все сильнее и сильнее и при этом, водя смычком по струнам, производил неприятнейшие звуки, щелкал языком и топал ногами. Оказалось, что виною всему была маленькая назойливая муха: жужжа и кружась на одном месте с невозмутимой настойчивостью, она садилась на нос адвокату, хотя он и отгонял ее тысячу раз. Это и привело его в дикое бешенство.
Иногда сестра моей матери пела какую-нибудь арию. Ах, как я радовался этому! Я очень любил тетушку. Она много со мной возилась и часто прекрасным своим голосом, проникавшим мне в душу, пела мне чудесные песни. Они так запечатлелись у меня в уме и сердце, что я и теперь могу тихонько их напеть. Те вечера, когда тетушка исполняла арии Гассе, Траэтты[305] или какого-нибудь другого композитора, были особенно праздничными — в этих случаях адвокату не разрешали играть. Когда играли вступление и тетушка еще не начинала петь, у меня уже замирало сердце, необычайное — и радостное и печальное — чувство охватывало меня с такою силой, что я едва сдерживал себя. Но стоило тетушке пропеть одну только фразу, как я принимался горько плакать и, напутствуемый отцовской бранью, изгонялся из залы. Часто отец спорил с тетушкой: она утверждала, что мое поведение объясняется вовсе не тем, что музыка действует на меня неприятным, отталкивающим образом, а скорее чрезмерной моей впечатлительностью. Но отец называл меня глупым мальчишкой, который выражает свое неудовольствие воем, словно какой-нибудь антимузыкальный пес. Защищая меня и даже приписывая мне глубоко сокрытое музыкальное чувство, тетушка главным образом основывалась на том обстоятельстве, что очень часто, когда отец случайно оставлял рояль открытым, я целыми часами подбирал благозвучные аккорды и находил в этом удовольствие. Если мне удавалось нажать обеими руками три, четыре, даже шесть клавиш, издававших чудесные, нежные звуки, то я без устали повторял эти полюбившиеся мне аккорды. Я клал голову на крышку рояля, закрывал глаза и переселялся в другой мир; но потом начинал горько плакать, сам не зная от радости или от горя. Тетушка часто меня подслушивала и умилялась, отец же считал все это детской шалостью. По-видимому, оба они, не только в отношении меня, но и по другим вопросам, в особенности касающимся музыки, держались противоположных мнений. Тетушке очень нравились музыкальные произведения, написанные преимущественно итальянскими композиторами, — просто и безо всякой пышности. Отец, будучи человеком резким, считал такую музыку пустозвонной и неспособной завладеть вниманием слушателя. Отец все время толковал о рассудке, тетушка — о чувстве. Наконец она добилась того, что отец взял мне в учителя музыки старого кантора, исполнявшего партию альта на наших домашних концертах. Но — праведное небо! Скоро выяснилось, что тетушка меня переоценила, отец, напротив, оказался прав. Как утверждал кантор, мне никак нельзя было отказать в чувстве ритма, в способности усваивать мелодию. Но все портила моя необычайная неповоротливость. Когда надо было разучить упражнение, я садился за рояль с твердым намерением быть прилежным, но очень скоро заводил свою игру в аккорды и дальше этого не шел. С неописуемым трудом разучил я несколько тональностей, пока не дошел до безнадежно трудной с четырьмя диезами. До сих пор отлично помню, что она называется E-dur! На нотном листе большими буквами было написано: «Scherzando presto»[306]. Кантор проиграл эту пьеску, и мне очень не понравился ее какой-то подпрыгивающий, отрывистый характер. Ах, скольких слез, скольких поощрительных шлепков злополучного кантора стоило мне это проклятое presto! Наконец наступил страшный для меня день, когда я должен был блеснуть приобретенными мною познаниями и сыграть все разученные пьески перед отцом и его музыкальными друзьями. Я все знал хорошо, кроме ужасного E-dur'ного presto. Накануне вечером я, ожесточившись, сел за рояль и решил во что бы то ни стало сыграть эту вещь без ошибки. Сам не знаю, как случилось, что я стал играть на клавишах, находившихся совсем рядом с теми, которые мне полагалось нажимать. Это мне удалось — пьеса сразу сделалась легче, и я не пропустил ни одной ноты, хотя играл на других клавишах. Мне даже показалось, что вещь стала звучать гораздо красивее, чем когда ее играл мне кантор. На сердце у меня стало легко и весело. На следующий день я смело сел за рояль и бодро заиграл свои пьески. Отец по временам восклицал: «Не ожидал, не ожидал этого!» Когда Scherzo было сыграно, кантор очень ласково сказал: «Это трудная тональность E-dur»; a отец обратился к присутствующему здесь приятелю: «Посмотрите, как хорошо усвоил мальчик трудную тональность E-dur». — «Извините, уважаемый, — возразил приятель. — Это F-dur». — «Да нет же, нет», — спорил отец. «Конечно, да, — настаивал приятель. — Сейчас мы это проверим». Оба подошли к роялю. «Смотрите», — торжествующе воскликнул отец, указывая на четыре диеза. «А все-таки мальчик играл в F-dur», — твердил приятель. Я должен был еще раз сыграть пьесу и сделал это очень непринужденно. Мне было не совсем ясно, о чем они так серьезно спорили. Отец взглянул на клавиши, и едва я взял несколько нот, как отцовская рука схватила меня за ухо. «Сумасбродный, глупый мальчишка!» — закричал он вне себя от гнева. Крича и плача, я убежал прочь, и этим навсегда закончились мои занятия музыкой. Тетушка находила, что, сыграв пьесу без ошибок в другой тональности, я выказал подлинный музыкальный талант. Но я и сам теперь думаю, что отец был прав, отказавшись учить меня играть на каком бы то ни было инструменте, ибо моя неповоротливость, отсутствие гибкости и ловкости пальцев все равно не привели бы ни к чему.