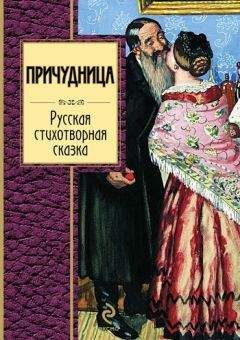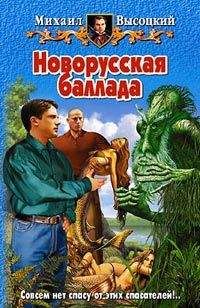Юлия Зонис - Цветы зла, тернии добра
Отправляя Казанцева в тыл, Жаботинский думал о жене и сыне. Ему очень хотелось передать им с Казанцевым предупреждение. Сказать, чтобы отходили вглубь замиренной территории, потому что замок падет через несколько дней — а с ним падет и город на той стороне реки, и все остальное… Но это было подло: предупредить только своих. А если не только своих, значит, нагнетать панику. Это противоречило уставу, здравому смыслу и всей жизни, прожитой Янушем Жаботинским в твердой уверенности, что под защитой замка ничего плохого не случится. Что мир продлится вечно, или хотя бы до тех пор, пока правнуки его правнуков не найдут способ раз и навсегда разобраться с дендроидами. А пока он, Януш Жаботинский, должен исполнять свой долг: читать детям в школе историю, подчиняться приказам майора Фирса, а теперь, после его смерти, самому отдавать приказы и до последнего защищать тех, кто остался в тылу.
От реки донеслись вскрики и смех: один солдат в шутку сделал вид, что окатывает товарища водой. Тот отскочил, поскользнулся и плюхнулся на задницу. Интендант говорил что-то, широко разевая черную дыру рта — видно, отчитывал провинившихся. Ветерок, пронесшийся над рекой, щекотнул щеку — и показалось, что в ветре брезжит кислый запах лесной клейковины. Неужели так близко? Жаботинский отвернулся от окна и в который раз задумался о живой бомбе.
7. Тыл
Вестовой, несмотря на то что спустился с неба, был весь покрыт пылью. Пыль взметнули с сухой земли крылья жар-птицы. Сама жар-птица, ныряя к бадье головой с сине-красным хохолком, жадно глотала воду, словно обыкновенная курица.
— Артиллеристы, — хрипло говорил вестовой по фамилии Казанцев.
В руке он сжимал свиток тубуса с приказом.
— Кто-нибудь с артиллерийским опытом… с каким-нибудь военным опытом?
Голос вестового звучал жалко, просяще и был так же сух, как пропеченная солнцем земля. Сердобольная мамка Талки протянула ему кувшинчик с молоком. Вестовой пил жадно, дергая кадыком. Вокруг него собрались все жители села, и только тут Растик понял, что мужчин среди них совсем нет. Только старики и убогие, вроде Рыжего Косты. А так — бабы, старухи, девки и малышня вроде него.
Допив, вестовой обтер рот широкой ладонью и снова спросил:
— Кто-нибудь… е?
Он говорил «е» вместо «есть», как горожанин. И все-таки он был свой, из замка. Растика так и жгло изнутри — хотелось спросить, как там батя. Но нельзя. Он понимал, что нельзя, вон мамка стоит, спрятав руки под передник, и тоже не спрашивает.
Растик почти не удивился, когда Рыжий Коста, скособочившись, шагнул вперед и выдохнул угрюмо:
— Ну я воевал. Еще до замирения дело было. Батя твой тогда пешком под стол ходил. Но кое-что могу.
Вестовой уставился на лишайник на щеке Косты. Их в армии учат отличать злокачественный лишайник от остаточного, да что там, даже в школе на уроках гражданской обороны этому учат. Ясно же было, что зелень на щеке Косты остаточная. Вестовой сглотнул:
— Еще кто-нибудь?
Он завертел головой, и тут завыла, запричитала Талкина мамка, схватилась и кинулась к Косте. Бухнулась прямо в пыль, вцепилась в подол его крапивной рубахи и запричитала:
— Не пущу! Ооооой, не пущу!
Коста слабо отбивался.
— Встань, дура-баба. Встань, перед людьми не позорь.
Талкина мамка ловила руками костыль. Растик отвернулся — до того стыдно было на это смотреть. Талкин батька вот так и ушел десять лет тому как. Ушел и не вернулся. И его, Растика, батя тоже ушел. Ушел и… Растик закусил губу. Даже думать об этом сметь нельзя! Не при мамке. И не при этом вестовом Казанцеве, которому еще две дюжины деревень надо облететь с батькиным приказом.
Рыжий Коста уходил на рассвете. С ним еще три старика. Они двигались на восток, к замку, туда, где медленно разгоралась в небе багровая полоска — то ли встающее солнце, то ли дальний огонь. Их вышло проводить все село, но Растик попрощался еще раньше: во дворе Талкиного дома, в сырых предрассветных сумерках. Рыжий Коста взлохматил ему рукой волосы и протянул сверток с древками стрел.
— Вот, — сказал, — вернусь, постреляем еще с тобой козложопых.
И ушел, только калитка хлопнула, да простучал по пыли костыль. Из дома не доносилось ни звука. Потом тихо, гундосо запела Талка. Мать ее на крыльце так и не показалась.
8. Фронт
Хуже всего был «тополиный пух» — мелкие белые семена с пушинками, висящие в воздухе и забивающие нос, горло, глаза ядовитым войлоком. Когда пух попадал под струю флеймера, он вспыхивал и сгорал с громким хлопком. Почти так же опасны были коробочки бешеной акации, взрывающиеся с треском и рассеивающие острые семена. Семена, попадая в живое тело, мгновенно начинали прорастать, и через минуту человек превращался в зеленую шевелящуюся массу, покрытую побегами. Если бы не «бессмертные» рубахи, Жаботинский давно бы уже лишился половины состава.
И это была только артподготовка противника. Бирнамский лес колыхался, шумел, трещал и скрежетал изумрудным морем у подножия замковой горы. Земля, прожженная насквозь лава-пушками, запекшаяся, подобно обсидиану, не давала дендроидам пустить корни. Однако полз уже от подножия кислый лишайник, полз, разъедая и размягчая каменно-твердую почву. Вслед за лишайником тянулись лианы… а в воздухе сплошной стеной шли симбионты. Сотни и тысячи птиц, крылатых рептилий и совсем непонятных летучих тварей, сплетенных с лесом в одну нервную сеть тонкими невидимыми волокнами…
Замок мог противопоставить им всего две батареи лава-пушек и несколько десятков флеймеров. Черно-красная густая лава ползла по склону вниз, навстречу лишайнику, выжигая все на своем пути. Огненные струи флеймеров проедали в зеленом ковре черные дымящиеся дыры. От дыма почти невозможно было дышать, и защитникам приходилось прятать лица под повязками из влажной марли. Марля быстро высыхала, кожа шла пузырями от жара. Казалось, посреди леса разложили гигантский костер. Флеймеры полосовали небо, кромсая птичьи стаи, с риском задеть своих: двое дозорных на жар-птицах кружили над замком. Вести были неутешительные. Лес огромен, и даже с высоты их полета кажется бесконечным. Он запрудил берег вверх и вниз по течению, и отдельные отряды инженерных дендроидов уже сооружают плоты, пока их собратья пытаются прорвать оборону. Люди проиграли бой еще до его начала. Им оставалось лишь отступить — по подземному туннелю к нижним воротам, выводящим прямо к реке, оттуда на мост и в город, где поспешно организовывали эвакуацию гражданского населения.
Но комендант Януш Жаботинский не мог отступить. С севера шли подкрепления, а гражданские там, на другой стороне реки, были совершенно беззащитны. В отрядах милиции одни старики и юнцы. Значит, надо было выстоять. Продержаться. Еще день. Еще ночь. День и ночь спутались в клубах дыма, и выныривающие из клубов черные лица стали совершенно неузнаваемы — лишь сверкали белым зубы и белки глаз. Горло сводил кашель. Жаботинскому, бегущему по стене, показалось на секунду, что он увидел Рыжего Косту, пришедшего с последним подкреплением. Старый солдат поливал водой раскаленный ствол лава-пушки. Но уже секунду спустя над стеной показалось новое облако «тополиного пуха», и все утонуло в криках и пляске огненных струй. Жаботинский сорвался с места и побежал дальше.
9. Тыл
Ночью Талка разговаривала с козлоногим.
Ручей шел лунными бликами. Замиренный лес тихо потрескивал. Растик сидел с самострелом в камышовых зарослях. А Талка разговаривала с козлоногим. Самым странным в этом было то, что Талка ни с кем не разговаривала. Никогда. Только плела рубашки и пела свои тихие протяжные песенки, в которых ни слова не разберешь. Растик и сейчас не мог разобрать ни слова, только «бе-бе-бе» — это девчоночий Талкин голос, и «бу-бу-бу» — низкий голос козлоногого.
В лунном свете их силуэты виднелись очень отчетливо, потому что козлоногий вышел наконец-то из леса и перебрался на их сторону ручья. И это тоже было странно, ведь уговор таков — замиренный лес и все его твари на том берегу, а люди на этом. Нет, люди иногда ходили в лес, по ягоды, по грибы. Но чтобы козлоногий пересек ручей… Очень ему, наверное, Талка нравилась.
Растик тихонько засопел и рычагом натянул тетиву. Самострел они делали вместе с Рыжим Костой. Это Коста выгладил ореховое ложе и приладил рычаг, и сплел тетиву из тройной рыбьей лески. Где-то теперь старик? «Там же, где и папа, — подумал Растик, недовольный сам собой за глупые мысли. — Защищает замок». А он, Растик, должен защитить неразумную Талку, пока Косты рядом нет. Вот сейчас, сейчас…
Он поднял самострел, целясь в широкую спину козлоногого. Девчонку бы не задеть… И тут лесовик обернулся и посмотрел прямо на заросли камыша, где прятался стрелок. Растику даже показалось, что прямо ему в глаза. Рука, уже занывшая от напряжения, не дрогнула — но Растик отчего-то вспомнил, как Семен с умным видом рассказывал, что козлоногие не симбионты никакие, а те же люди, только вступившие в союз с лесом. Что шерсть у них на ногах — это серый лишайник, а копыта — разросшаяся грибница… Это значит, убить козлоногого — все равно, что убить человека?