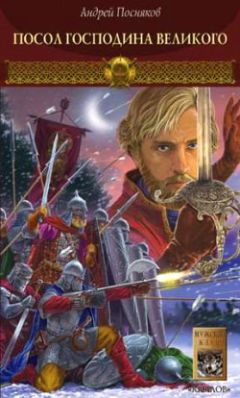Андрей Посняков - Посол Господина Великого
С ним скакали еще и неведомо откуда взявшиеся девицы, тоже почти голые… почти дети, ряженные в звериные шкуры, на головах — венки из сушеных цветов. Какой-то маслянистый пацан азартно молотил в бубен знаменитую вещь «Лед Зеппелина» «Моби Дик». Прокурор Чемоданов извивался в пошлом танце, подобно солисту «Бони М» Бобби Фаррелу. Девчонки пели:
Мы тебя пятницу
Жили-дожидали,
Неделю всю,
Весну-красну,
Все лето тепло,
Всю зиму холодну,
Едва дождалися,
Глаза охвостали!
Потом, взявшись за руки, присутствующие — а все это, как понял Олег Иваныч, происходило в кабинете прокурора — закружили хоровод…
— Как на Олегов день рожденья испекли мы каравай…
— Лель! Лада!
— Хэппи беф дэй ту ю!
— Лада! Лель!
— Пей до дна, пей до дна, пей до дна…
— Да пропадите вы пропадом! — громко закричал Олег Иваныч и очнулся.
Он лежал в каком-то грязном сарае, напоминавшем сельский клуб периода студенческих отработок в колхозе, только вместо портретов членов Политбюро ЦК на стенах висели козлиные черепа. Посреди убогого помещения ярко горел костер, обложенный камнями. Перед костром стоял какой-то мужик в медвежьей шкуре — нет, похоже, не прокурор Чемоданов — и что-то нараспев декламировал, помогая себе чем-то похожим на гигантский фаллоимитатор.
— Который час, мужики? — открыв глаза, поинтересовался Олег Иваныч…
— Никак, очнулся, паря?
Сильно слаб был Олег Иваныч, так что ни рукой, ни ногой. О судьбе своей — и к кому попал — догадался. К тому ж, чтоб ничего такого не учудил — а что, мужик видный, враз от лихоманки оправится, — сковал его Кодимир цепью длинной. Не отвяжешься от цепи той, не порвешь, не убежишь — попробуй-ка! Олег Иваныч пару ночей пытался звено какое расслабить — куда там! Только ногти все изломал да погнул припрятанный втихаря гвоздь.
В избе не все втроем — Кодимир-волхв, Ограй да Степанко были. И остальные разбойники сюда зачастили, к зимнему переходу готовились. Зимой-то на островке опасно оставаться было — ватаги охотничьи по всему Черному лесу шастали, славы дурной не боясь. Да и что сказать — места знатные, дичью изобильные. Разбойники и сами много чего запромыслили: небольшого кабанчика, зайцев да тетеревов-рябчиков. Это не считая цапель, да дроздов, да другой какой мелкой птицы. Во дворе, за капищем, по ночам мясо коптили — днем взгляда зоркого паслись. Олег Иваныч то сквозь оконце узкое видел — не хватало цепи на улицу, хоть и длинна была цепь-то. Длинна — не длинна, однако — только до двери да в сени, к уборной. Так и передвигался, звеня. Хитро цепь натянута — от левой ноги к правому запястью — не очень-то походишь, больше попрыгаешь. Что и делал Олег Иваныч, под любопытные разбойничьи взгляды. Не говорил с ним никто — Кодимир строго-настрого запретил, догадывался, что хитер пленник. Заговорит кому зубы — после поминай как звали. Потому — строго за тем следили. Ограй раз отрока разбойного, Степанку, так палкой по ноге треснул — аж побелел отрок. А и за то только, что, миску с едой подавая, что-то сказал Степанко. Неча! Сказано — не разговаривать, значит — не разговаривать. Вообще, хорошо было бы пленника в амбаре держать, да опасался того Терентий — ночи стояли холодные, враз околеть можно в амбаре-то. А чулана какого в избе не было — отгородили место в уголке дальнем, лавку поставили — там и жил Олег Иваныч, изредка в сени выходя. Двое разбойников денно и нощно за ним следили. Да и сам Терентий с Ограем присматривали.
Все холоднее делались ночи. Темнее, опаснее. Все чаще подергивались по утрам тонким ледком окрестные лужи, а зависавшие над болотом тучи исходили мокрым снегом. По ночам, где-то близ острова, злобно выли волки.
Прислушиваясь, передергивали плечами разбойники, а отрок Степанко беспрестанно читал заговоры:
— На море на Окияне, на острове на Буяне стоит изба, а в избе той сидит старица, а держит она жало. Ты, старица, возьми свое жало, приди ко мни, вынь жало смертное. Заговариваю раны колючия на ногах, на голове, на лбу, на затылке, на бровях и подбородке. Будьте во веки веков на волке сизом, лохматом, в репьях-пегатинах; сидите на волке том — вовек не сходите!
Степанку-отрока давно приметил Олег Иваныч. Вспомнил — не тот ли отрок недавно на деревину вознесся. Тот… Глаз серый, волос длинен, токмо тогда в клобуке монашьем был отрок-то, хоть и нехристь, как видно. А не он ли в прошлом году провожал Олега Иваныча после того, как вместе чудом выбрались из сожженного капища, когда медведь чуть всех не съел?.. Если б не парень один, Ратибором его, кажется, звали… Да, Ратибором…
Олег Иваныч вспомнил прошлую зиму, когда случилось ему проезжать здешними местами. Как спасался от шильников, как оказался в языческом капище, в маске птичьей, принятый всеми за какого-то Терентия из Явжениц. Вспомнил нагих девиц, пляски, свирели и бубны. И как подожгли капище враги, как пришлось бежать подземным ходом, что прямиком в медвежью берлогу вышел…
Как, выбравшись и простившись с раненым Ратибором, спустился к реке, ведомый отроком. Как показались вдалеке, на излучине, возы и кони — караван муромского купца Ефима Панфильева…
— Светлый путь тебе, господине, — сняв шапку, низко поклонился отрок. — Ратибор-то мне старшим братом приходится. Да и сестры с нами, Глукерья, Мартемьяна, Лыбедь… Видал, как плясали?
Паренек улыбнулся.
Олег Иваныч подмигнул ему на прощанье:
— Тор! Ярило! Ты-то кто?
— Лада! Лель! — эхом отозвался отрок. — Степанкой меня кличут.
Степанкой…
А что, интересно, Ратибор тоже здесь, средь разбойников? Спросить бы… Да как спросишь-то, коли главный-то черт, Кодимир-нехристь, смотрит волком, из закутка никуда выпускать не велит. Придумывать что-то надо. Бежать… А как убежишь-то, коли пригляд ежечасный? Да и сговорить кого — попробуй, коль и словом с ним никто не молвится, запрещено. А пообщаться с кем-нибудь нужно, хоть с тем же Степанкой… Вон, сидит на лавке, вой волчий слушает. Заговоры свои читает… Заговоры…
На следующий день занедужил Олег Иваныч. Есть-пить отказывался, руку к челюсти приложив, мычал уныло. Махнул поначалу рукой Терентий, да к вечеру призадумался — не становилось лучше пленнику-то! Как бы не помер от зубной лихоманки, бывали случаи.
— Может, вытянуть зуб-то?
Олег Иваныч только головой покачал, показал на руке три пальца — три, мол, зуба, и все доходят. Вот заговор бы какой помог, верно…
Почесал Терентий бороду, подозвал Степанко:
— Чти, отроче!
Поклонился Степанко волхву, в закуток Олегов зашел, примостился на лавке, начал нараспев:
— Иду я не улицею, не дорогою, а по пустым переулкам, по оврагам, по болотинам. Навстречу мне заяц. Заяц ты заяц, где твои зубы? Отдай мне свои, возьми мои. Иду я не путем-дорогою, а сырым бором, темным лесом. Навстречу мне серый волк. Волк ты, серый волк, где твои зубы? Вот тебе мои зубы, отдай мне свои. Иду я не землею, не водою, а чистым полем, цветистым лугом. Навстречу мне старая баба. Старая ты баба, где твои зубы? Возьми ты волчьи зубы, отдай свои выпалые. Заговариваю я зубы, крепко-накрепко у… Звать-то тя как, запамятовал? Олег Иваныч? …У Олега, свет Иваныча, по сей день, да на веки вечные! Ну, как, человече?
Постонал Олег Иваныч, поворочался на лавке. У очага Терентий-Кодимир с Ограем да парой разбойничков носом клевали, заговор Степанкин слушая. Приоткрыл левый глаз Олег Иваныч:
— Чуть лучше мне, — сказал, — да уж больно громок ты, отрок. Потише чти.
Пожал плечами Степанко, потише так потише.
— Заря зарница, красна девица, полунощница! Во поле заяц, на море камень, на дне Лимарь. Покрой ты, зарница, мои зубы скорбны, рубахой своею от Лимаря, за твоим покровом уцелеют мои зубы…
— Тише, тише, не так громко… — шептал Олег Иваныч.
У очага вроде молчали. Нет, вот поднялся кто-то… Зевая, завалился на лавку. Кодимир-нехристь. Парнишечки тоже к стеночкам привалились. Чти-чти, отрок…
— Враг Лимарь, откачнись от меня, а если будешь грызть мои зубы белые, сокрою тебя в бездны. Слово мое крепко! Ну? Легче ли?
Кивнул Олег Иваныч, на лавке чуть приподнялся, выглянул… Ага — повалились все, спят. Нет, не все. Ограй, черт лысый, нет-нет, да и зыркнет глазом.
— Почти-ко еще, отроче…
— Матушка-крапивушка, есть у меня Олеже свет Иваныч, есть у него на зубах черви…
— Стой, какие такие черви?
— Да это слово такое, в заговоре. Ты не вникай особо… Сейчас я крапивки принесу, к ногам привяжу — утром все как рукой снимет.
Отрок дернулся было к очагу, но Олег Иваныч быстро схватил его за руку:
— Как братец твой, Ратибор, поживает?
Вздрогнул отрок, скривился.
— Плохо, — прошептал горестно. — Не живет вовсе. В прошлую зиму шпыни какие-то живота лишали. И сестер… Глукерью, Мартемьянку, Лыбедь… Лыбедь-то совсем дите была…