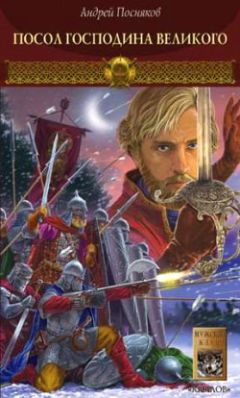Андрей Посняков - Посол Господина Великого
Людина конца проехали ополченцы, за ними Загородский, затем Неревский… Геронтий, с уличанами своими прошествовав, Олегу рукой помахал.
Потом Торговая сторона пошла — Славенский конец да Плотницкий.
Олег Иваныч дождался своих — Славенских, коня пришпорил, замахал рукой Олексахе — тот с Нутной улицы с людишками шел — конь-то в пути пал от жары. Весел был Олексаха — шутил да смеялся, верил — близка победа, вон воинство-то эдакое! Ни конца не видать, ни краю. Голова с воеводами да посадником впереди — еле видать! А хвост, с Плотницкими, еще из лесу не вышел. Многолюдство грозное…
Ничего не сказал Олег Иваныч, услыхав похвальбу Олексахину. Покачал головой только, понимал — не числом воюют, уменьем. Знал — в московском-то войске не сбитенщики да квасники — народец подобрался умелый, сноровистый. Воеводы опытны — каждый свой «наказ» от великого князя имеет, однако и нарушить «наказ» сей, в случае чего, запросто можно, так и сказано: «поступать по делу глядя».
За холмом деревня показалась. Избы бревенчаты, черны, церковь с маковкой, серебристой дранкой крыта. Мусцы — селишко то звалось. Дорога здесь проходила из Пскова к Новгороду. Тут и должны были появиться псковичи, с ратью московской соединиться. Тут их и ждать порешили. По одному вражин разбить.
Спешились, кто о конь был, лагерь творить стали. Разбивать шатры узорчатые, коновязи ставить, кто попроще — ветки на шалаши рубить. Запалили костры, сели полдничать — к вечеру было дело.
Олег Иваныч знакомых навестил в полку владычном. Сам-то он со славенскими шел, в ополчении, не звал его нынче Феофил в полк, не приказывал. А прощаясь, говорил смурно, ровно на смерть провожая. Видно было — не хотел владыко на православного государя руку поднимать, в святой вере русской раскол посеять. Те же мысли и в полку софийском были. Говорили: «Будем с плесковичами биться, а с москвитянами — как Бог…» Как Бог… А как Бог? Конечно, за православных, за Филиппа, митрополита Московского. Вот и смотри на владычный полк, вот и думай.
Где же славенцы-то? Вона, кострище палят… Мужики бугаистые. Нет, вроде не славенцы.
— Откель будете, вои?
— Неревские мы, с Кузьмодемьянской…
— Часом, не видали Славны?
— Кажись, за леском.
— Не, Митроха! За леском — то федоровские. Вон, оттуда мужик за водой пробежал… Его и спроси, боярин! Эй, паря!
Обернулся на ходу мужик — черт здоровенный — к колпаку, низко на глаза надвинутому, приложил руку — от солнца. Присмотрелся к кому-то, прислушался… да вдруг повернулся проворно, да в обрат, к леску побежал, воды не набравши. Только бородища кудлатая дикая на ветру развевалась!
— Чай, забыл что, — пожали плечами неревские.
Олег Иваныч и сам плечами пожал — странный какой-то мужик у федоровских. Хотел уж было дальше ехать — кто-то за стремя дернул. Оглянулся — Олексаха. В руках ведерко кожаное.
— Приходи, Олег Иваныч, ушицу хлебать. Дедко Евфимий ушицу варил — знатная ушица!
— Дедко Евфимий… Как — дедко Евфимий? — удивился Олег Иваныч. — Он же в Новгороде остался, за усадьбой присматривать.
— За усадьбой Настена моя присмотрит, — чуть смущенно улыбнулся Олексаха. — Договорился с ней дедко. Не могу, говорит, так сидеть.
— Ну не мог, дак… Черт с ним, надеюсь, не разграбят усадебку. Где, говоришь, наши-то?
— А вона! За тем орешником… Песни поют, слышишь?
Возмужал Олексаха за последнее время. Заматерел, в плечах раздался. Высок стал, не как раньше — длинен. Да и ума поднабрался — покидала судьбишка-то по землицам немецким да по морю Варяжскому. Волосы отпустил до плеч — как у Олега Иваныча, бородишку завел такую же — во всем старался шефа копировать. Даже слова иногда употреблял Олег-Иванычевы: «Значитца, так и запишем — не шильники вы, шпыни ненадобные!»
Махнул рукой Олексаха, с ведерицем на родник побежал.
Олег Иваныч тронул поводья и медленно поехал на песню.
Из-за лесу, лесу темного,
Из-за темного, дремучего,
Подымалася погодушка,
Что такая нехорошая:
Со ветрами, со погодами,
Со великими угрозами…
Да уж… Насчет ветра еще можно спорить, но угрозы действительно были великими.
— Здорово, огольцы! Уха, говорят, у вас знатная?
— Садись, Олег, свет Иваныч, ложку бери!
Дедко Евфимий сноровисто подложил под садящегося Олега снятую попону. Посмотрел с хитринкой.
Ложку взяв, усмехнулся Олег Иваныч:
— Что щуришься, дед? Знаю про тебя уж…
Вкусна ушица оказалась. По пути еще, в омуте, оглоеды дедовы наловили рыбки. Сеточкой небольшой и поймали, только в омуток бросили. Щука, да сазан, да уклейки. Обмелела от жары река-то — вот в омут рыба и бросилась. Там ее и выловили, где — знали.
Так и не спадала жара, ни дождинки, ни тучки на белесом небе. Одно только солнце — жаркое, сердитое, желтое.
Многие пообедали уж — кузьмодемьянские, яковлевские, федоровские… К омуту пошли — купаться. Хорошее дело — пот походный смыть да от суши охолонуть маленько. Пушкарские последними пришли — уж всю-то реченьку замутили. Стояли на берегу, думали, то ли раздеваться, то ли в обрат идти. С ими и мужик тот, кудлатый. Постоял да в воду. За ним и остальные попрыгали. А кудлатый-то — то там, то сям по реке рыскал, словно черт-те знает что выискивал…
Славенские у костра песни пели.
Красиво выводили оглоеды дедовы, с чувством. Олег Иваныч и не знал раньше, что они так петь умеют…
Соловей мой, соловушко,
Соловей мой, птица вольная,
Птица вольная, бездомовая,
Полетай, мой соловеюшко,
На родимую мою сторонушку,
На родимую, на любимую…
На Славну, на Ильинскую, на Нутную…
Купальщики с Федорова улицы мимо прошли, к шалашам своим возвращаясь. С ними и тот мужичага кудлатый — ну, чистый разбойник. Как пришли, подмигнул остальным, посудину плетеную с телеги вытащил… Вино твореное, крепкое, с зельем намешано.
— А глава-то не разболится поутру?
— Не пужайтесь, робяты. Не разболится. Пейте-знайте!
Уговорил.
Выпили федоровские — спать полегли. Кудлатый вокруг них бегал — кому седельник под голову положит, кого кафтанишком накроет.
— Спите, высыпайтеся! А я ужо, до родных добегу, до Плотницких. К ночи и не ждите, утром только вернуся!
Натянув пониже колпак, направился кудлатый к Плотницким, за лесок. Баклажку плетеную с собой прихватил. Шел, улыбаясь, кланялся:
— Здравы будьте, неревские! И вы, запольские! Рогатице — низкий поклон! Ильиной — нижайший…
Везде, по всему левому берегу Шелони-реки, станом стояли ополченцы. У самой деревни — «кованая рать» боярская, а ближе к лесу — там люди попроще. Щитники, бронники, мечники… Мясники, цирюльники, кожемяки… Пирожники, квасники, сбитенщики… Кто за Новгород драться пришел, живота своего не щадя. Кто — против псковичей. А кто и так — за компанию, да и чуть не силой пригнан.
Покивал всем кудлатый — да к речке…
Тут и сторожа выставленная. Молодой парень с рогатиной.
— Кто таков?
— Иванко я. Ушицы наловить, боярину Арбузьеву…
— Арбузьеву, говоришь? — недоверчиво уставился парень. — Я ведь и сам арбузьевский… Что-й-то не припомню тя!
— А ты поближе-то подойди. Да хлебни вон винца доброго!
Достав из-за пазухи баклажку, улыбнулся парню, словно любимому родственнику:
— Ну? Неужто не признал, паря? Я ж тятеньки твоего знакомец давний!
Парень подошел ближе, всмотрелся.
И, охнув, медленно опустился на землю.
— Тихо, тихо, паря. Не шуми.
Кудлатый осторожно подхватил падающее тело и, уложив его на траву, вытащил из-под ребра острый засапожный нож.
— Так-то лучше. А то любопытный ты больно. Кто да откуда… Лежи теперича. Отдыхай.
Осмотревшись, отволок мертвое тело в желтые кусты дрока. Сняв колпак, вытер со лба пот, уселся на корточки, отдыхая. Отхлебнув из баклажки, размахнулся — выкинуть… Чуть подумал — и, осторожно положив баклажину на видное место, как был — в одежде — бросился в реку.
Ближе к вечеру шлялся по берегу парень. Боярина Киприяна Арбузьева человечек дворовый. По приказу боярскому и сюда прибыл — воевать московитов да псковичей. Уж зело не хотелось воевать-то, а что ж — на все боярская воля! Походил парень по берегу, покричал:
— Онисим! Онисим!
Не нашел никого, махнул рукой. Видно, давно уже почивать решил Онисим. Ну, да Бог с ним… Посидел на траве парень, встал. Наткнулся на баклагу плетеную. Видно, потерял кто-то. Пахнет пряно… Хлебнул. Хорошо! Выхлебав до дна флягу, растянулся на траве холоп арбузьевский. Растянулся да заливисто захрапел. Оранжевое закатное солнце красило воды Шелони кровью.
Оранжевым закатом пылали доспехи всадников — московских служилых людей, что со спешным докладом пробирались в Коростынь, к князю Даниилу Холмскому.